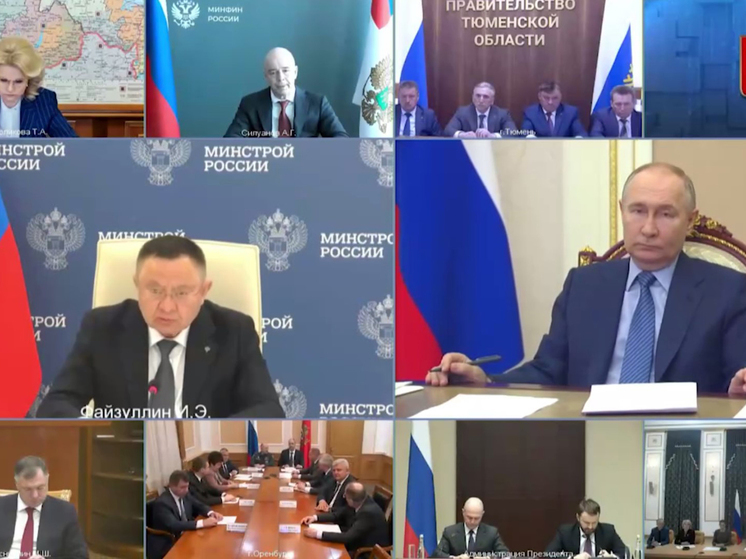Книгу, отмеченную первой премией, прочитал известный прозаик и эссеист Григорий Рыскин. Живущий в Нью-Йорке писатель сотрудничал после эмиграции в газете Сергея Довлатова, о чем, кстати, рассказывает только что вышедший в Москве сборник и его прозы «Новый американец».
Отложил все дела и читаю пурпурный том... С первых абзацев ощущаю, как Серж Довлатов аплодирует из-под надгробья на еврейском кладбище в Квинсе... Это ТРУДНАЯ проза. Не для верхогляда. Плотная, как «Улисс». Ибо в ней спрессован ВЕК... Кто хочет просто расслабиться после дневных трудов... не советую... Не коммерческая проза... Она ведет закоулками сознания и подсознания, петляет заячьими петлями, прыгает по-лисьи, поднимается к звездам, спускается на уровень солдатского гальюна... Я распахиваю этот бордовый талмуд и вижу сквозь строки кириллицы свои проволочные усы, бутылочные блестящие глаза, иссеченное морщинами и шрамами лицо... И ЧУЮ НОСОМ ПОРОХ ЭПОХИ...
В то же время закатываюсь от хохота... В Эпоху входят папа с мамой маленького героя-рассказчика с их причудливыми характерами и дидактическими установками. «Это был роковой пункт их идейных раздоров. Мамина теория святой лжи приводила в бешенство папу с его теорией святой суровой правды»... Надо быть полным идиотом, чтобы не извлекать из этого перманентного семейного конфликта свою хитрую выгоду... Однако главный комплекс маленького характера вырастает из другого. Заход почти эпично-мифологический: «Я провел свое детство в окопах Великой Отечественной войны»... Это пятилетний «папенькин сынок» сбегает из детского сада шнырять по развалинам разбомбленной Одессы или дотам новоград-волынского укрепрайона. «Я был отщепенцем и лишенцем — мой высокий, стройный, молодой, целый и невредимый отец... в чине капитана с орденом и несколькими медалями на груди... вернулся живой и невредимый и даже не раненый... Я был чуть не единственный в разваленном квартале, имевший живого отца, и на мне лежала печать общего презрения»... Трансформация этого простодушного чувства — рефрен их отношений до самого папиного ухода из жизни уже в «новое время»...
Набоковская интонация... Но много ли на свете людей, которые поймут, что это отменная проза? Кто научит их понимать искусство слова? Не та ли нищая училка, что сама не может отличить Бунина от Бубенного?
Но вот другое детство. «...В аду треска и грохота, скрежета и огня, крови и воплей, на обугленной насыпи среди обугленных и изорванных тел, в смраде горелого мяса сидел детский скелет. Кричать он был бессилен, только беззвучно разевал ротик, как бы зевая и жмурясь. Как его выбросило из теплушки с выбитыми волной досками, так и воткнуло острой косточкой зада в насыпную щебенку...» Это начало судьбы «призрака пустыни», «каракумского маугли» из блокадного Ленинграда, подобранного беженцами туркменского рода. «В крохотном войлочном селении эшелонного найденыша переложили с арбы на кошму, и над ним склонились несколько седых и черных бород... Он начинал жить сначала... Его закапывали в горячий песок — туркменская сауна, намазывали спинку бараньим жиром, укутывали в верблюжью шерсть, поили травами и крутым кипятком густого неприправленного бульона из молодого барашка. Маленький маугли начал ползать в обнимку с овечками и грозными пастушьими волкодавами»...
Их линии жизни пересекаются, когда «маугли» предстает перед нами загадочным восточным мудрецом с еврейской внешностью и туркменским именем — Эдепгельды Эсенов. Причастным между всем к «ваянию» местных диктаторов... Как драматичны попытки ментально вернуть его «в лоно» первородной городской цивилизации... Так разворачивается тот самый «евразийский роман», пространство которого — от пустынь Средней Азии до тихоокеанских берегов, от московских редакционных офисов до блиндажей и перевалов «Афгана»... Снова «комплекс благополучия» на фоне глубоких личных и всеобщих наших драм и трагедий... Снова хохот от подмеченного в этом «борделе» комизма...Сменяющийся тоской удрученности... Глава о колхозном рабстве (мамина деревня), увиденном все теми же удивленными глазами пацана из андерсеновой сказки, «достает» так же, как глава «Памятник афганцу-победителю».
«...На обочине трассы, над обрывом к мелкой бурной реке, запруженной рамами и каркасами сгоревших машин и танков, на крохотном клочке бурой травки стоит в полный рост он. Настоящий афганец-победитель. Тощий, как жердь, с негустой бороденкой, впалые щеки... босой, как и большинство сородичей, рваные штаны и истерзанная рубаха... И что же у него в руке? В заскорузлой немытой пятерне, в двух бережно сомкнутых крючковатых пальцах... — хиленький голубенький цветочек на болезненном стебельке, сиротское дитя истоптанного перевала... Закрыв глаза погрузился глубоко в себя и блаженно нюхает почти несуществующие лепестки... Ничто не сдвинет его с места, в этом и победа над всей вакханалией нашего нашествия»...
Надо ли еще что добавлять к этому образу? А там много чего добавлено...
И вот еще что... Григорий Соломоныч Померанц в статье о Достоевском подразделяет менделеевскую таблицу достоевских человеческих типов на три категории: ГАДЫ, РЫЛА и БЕРНАРЫ (поверяющие гармонию алгеброй). Все эти категории присутствуют в «евразийском романе» живыми искрящимися типами, поступками, действиями, конфликтами, все так же полными трагикомизма...
Главная формула нашей жизни — «страна бесполезного труда »- постепенно и неотвратимо открывается герою-рассказчику в командировках и коллизиях журналистской рутины... Почему я, дряхлый еврей в Америке, должен восхищаться этой экспрессионистской, насыщенной туркменским солнцем и дальневосточной хвоей русской прозой? Рваные и перетекающие, джазовые ритмы... Где же ты, «самый читающий в мире народ»?

Для автора это история «везунчика». И постоянной платы за свое везение чередой Мистических Совпадений... В этот раз «местное пиво пополам разбавляют «Московской»... И хилый наш репортер отличился и отключился... вместо Челекена попал на противоположный берег Каспия...
«В итоге уже на буксире „Джанга“, запутавшись во всех координатах, одолеваю последний этап к челекенскому берегу... Где моя заждавшаяся буровая морвышка?...Срезало, как бритвой....Взорвалась начисто... Море кипело, собирали вареных людей... С ухой вместе... Да, кабы не свернули с пути истинного, кабы не смешали пиво с водкой... Чья рука отводит тело от адова дела? А ведь не первый раз. .На ночном танкодроме... механики отвалили в сторону поспать... Что навек отделило меня от годков? Роман-газета с „Одним днем Ивана Денисыча“. Через час по годкам пропахал танк, спутавший огни исходного рубежа... По графику жизни и смерти
От пафоса и причитаний спасает неистощимая самоирония, никак не отстающая с самых «окопов Великой Отечественной войны»... Впрочем, прорывается ПРОЗА ПОЭТА... Ритмический белый стих... «Гром ташкентского землетрясения донес привет от родителей... Апрельским ранним утром 1966 года я слез с крыши поезда, так как билеты до Ташкента не продавались. Туда кинулось все окружающее пространство. Отец городов туркестанских был весь покрыт трещинами. Трещины змеились по стенам, дувалам, асфальту, траве, по крышам И КАК БЫ ПО ЛЮДЯМ... Вокруг трещин клубилась суета муравьиной растерянности. Без того малорослый Ташкент как бы присел и крякнул»... Тут что-то чрезвычайно знакомое... Ну конечно... Интонация пастернаковской прозы... Когда слово, освобожденное от союзов, частиц, вводных и прочих прилипал, дышит в пространстве полной грудью.
Я не рецензент... Дарю читателю разноцветные словесные кубики... Он может сложить из них домик по своему усмотрению... Но лучше оставить все как есть...
Суть партийно-комсомольской газетчины сформулировал древнегреческий поэт Агафон. «Бездельем мы как делом занимаемся, а делом как бездельем забавляемся». Игра в «живые картины»... Все и вся — актеры и статисты. «Ты журналист Немо... Каждый раз переселяешься в чужую шкуру и профессию... От первого лица даже интересней... Я побывал лучшим токарем, победителем конкурса, был чабаном, требующим построить кошару, был девушкой-механизатором, был изобретателем из литейки, был директором нефтеперерабатывающего завода... был туркменским певцом, был участником конного пробега через Кара-Кумы, был, был, был, был...» Каково оно — писать от «Я» великого местного актера, исполняющего Ленина! А надо войти в эту двойную роль. В то же время — какой человеческий опыт, заквашенный на понимании и спасительном цинизме! А вернее, иронии. Франц Шлегель писал в «Критических фрагментах»: «Ирония с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство и добродетель». Ирония —единственное прибежище человека с умом и сердцем в этом БЕЗУМНОМ, БЕЗУМНОМ, БЕЗУМНОМ МИРЕ.
Неизменный юмористический эффект от несоответствия формы и содержания — госплана и пастушьего кочевого уклада, Корана и Капитала, природного лукавство и тюркской советизированной агглютинации... Вот два нищих газетных плута ваяют речугу для секретаря Красноводского горкома партии, который вырастет потом в диктатора бывшей братской республики. Все же прошу справедливости, сам родом оттуда — вступались же мы порой за униженного и оскорбленного честного сельского учителя, за выданную насильно замуж школьницу, обличали проворовавшегося башлыка... Но то была половинка правды, четверть ПРАВДЫ, осьмушка ПРАВДЫ... Гибельную для страны «ИСТИНУ» обсуждать было смертельно опасно. А это смертельно опасно и для народа... Но зато в пивных паузах между партсобраниями «...всегда бились над двумя краеугольными камнями: есть ли жизнь на Марсе и был ли Христос»...
Ракурсы властных структур с фарсами коммунистического и демократического мифов... Рыдающий генсек Брежнев с насквозь мокрым лицом от издевательского двенадцатого подряд пафосного исполнения краснофлотцами песни «Малая земля»... Новый лидер слагаемой партии власти («корнеплодоголовых»), силящийся связать три слова в простое предложение... Дворня нового барина, сменяющая дворню старого... То, что все видели, но что еще предстоит осмысливать и осмысливать. Особенно на фоне веков и пустынь... А вот рассказать так, чтобы тебя встряхнуло как следует, — тоже каждый раз новое искусство. Глава «Ресторан «Ленин»... Последняя апелляция к свергнутому вождю классово-бюрократической идеи. Вдруг — против шерсти. То, над чем все хохочут. «Товарищ Ленин, я вам докладываю, кухарка должна управлять государством!» Ибо править не зная, как устроена кухня, самое низовое его звено, из чего состоят хитрости и расчеты кухарки — немыслимо на самом деле. А эти придурки правят «массами», не умея выстирать собственные носки и вымыть за собой тарелку...
Не потому ли (глубоко подкорково) эти «массы» вновь и вновь ввергаются в кровавый кошмар то афганского нашествия, то чеченской бойни... Когда с обеих стравленных вампирами сторон многочисленные "жизни смахиваются в грязь, как объедки с пьяного стола«...Этот моральный ожог — сквозная боль книги, боль «безоружного» перед катаклизмами безумных решений и вызванного ими стихийного безумия только что нормального человека...
Однако же у него там, в бордовом (цвет отменного французского вина) талмуде, на первом ли, на втором плане, а то и мимолетом мелькнувшие в калейдоскопе бытия, — и живые, теплые люди, выносящие на себе всю эту бестолочь «генеральных линий». Буйный в свободолюбии и сердечной отзывчивости Саня-казак, художница Светка-детдомовка, поэтичная и чуткая натура с неандертальским лицом киношной эсэсовки... Рядом в маленьком кружке пожилых периферийных интеллигентов туркменский умница, седой полиглот-переводчик с вечным пигментным пятном на тонком лице после карагандинских каторжных шахт — и случайно уцелевший русский профессор-этнограф. Который «просто не вернулся в Ленинград из очередной этнографической поездки. Весть, что весь институт посадили, свернула его маршрут из тундры в пустыню, так как СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ ВЕТЕР ЗАМЕТАЕТ СКОРЕЕ, ЧЕМ НА СНЕГОВОМ НАСТЕ. Сменив облик и профессию, он доживал в крохотной самодельной времянке в чужом дворе...» Молодой горячий поэт Аннаберды, тут же схватившийся за нож, услышав призыв московского сотоварища Богдана «показать евреям, как нож держать надо». «Я твоим кишкам покажу, как нож держат!»... И вдруг предстает фигура, будто одновременно написанная Брейгелем Мужицким, Рембрандтом, Сальвадором Дали... СЛЕПОЙ ГАРМОНИСТ на палубе КОРАБЛЯ ДУРАКОВ, местная звезда фольклорного ансамбля. Днем на свету — народные песни, припевки, прославление лучших доярок и скотников со сладкой незрячей улыбкой. Ночью, во тьме одиночной бессонницы, — яростные матерные частушки со дна человеческого достоинства...
Из таких и множества других живых, зримых и ощутимых повседневных человеческих ноток незаметным образом слагается всесодрогающий мощный звук — «ГЕНЕРАЛ-БАС» тарасовской евро-азийской эпопеи... Это нелегкая книга. Кто ищет развлечения и досуга, отложит увесистый фолиант в сторону. Но человек со вкусом к живому современному русскому слову, с обостренным нравственным чувством полюбит и оценит произведение. Потому что оно «НА ЛЮБВИ ЗАМЕШАНО С ЛЮБОВЬЮ».
Григорий РЫСКИН, Нью-Йорк.
Материал подготовила к публикации
Галина БИЛЯЛИТДИНОВА.