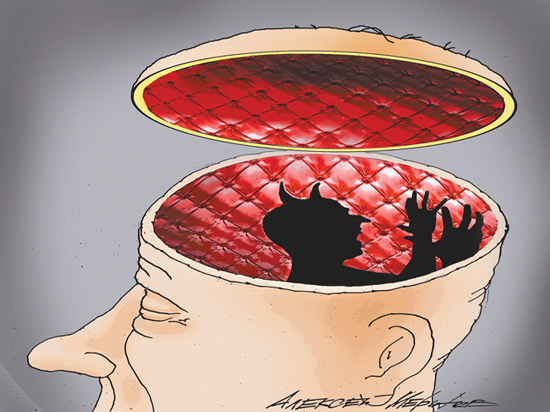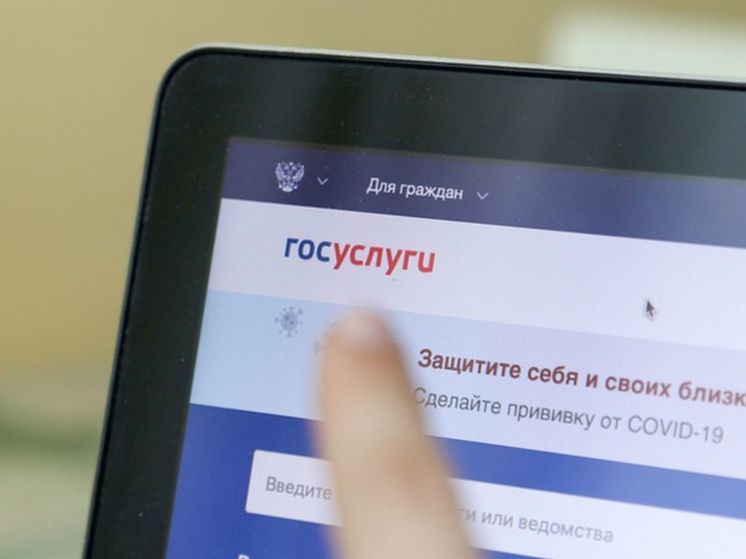Привык за долгие годы филигранно владеть собой. Ни разу не позволил эмоциям выплеснуться, а черным чувствам вырваться наружу. Иногда сам ужасался: возможно ли — никого не любить, всех презирать, желать всем плохого? «Что я за нелюдь!» Но спокойно, отрешенно взвесив аргументы, приходил к выводу: мотивация правильная, выверенная, причина — не собственные желчность и эгоизм, а люди, их характеры и беспросветная тупость.
В детстве мать и отец слишком часто его наказывали — за что? Они были ограниченные, упертые мещане, пошлые обыватели. Он, уже в раннем возрасте, превосходил их быстрой смекалкой.
Учился не ахти. Но и школьных учителей (а потом институтских преподавателей) сканировал насквозь — с их жалкими запросами, крохотными зарплатами, не сложившимися личными отношениями, неудовлетворенными амбициями.
В конторах, где доводилось служить, вынужденно подчинялся долдонам-начальникам и вынюхивавшим крамолу кадровикам. В меркантильные интриги не встревал. Не конфликтовал. Мало-помалу обретал опыт претерпеваться, приспосабливаться, уживаться, ладить. Мог восстать, возбухнуть, разораться (поводов возникало предостаточно), указать каждому соответствующее место… «Всяк сверчок знай свой шесток». Но пословицу адресовал прежде всего себе. Бунт и взбрык лишь напортят, нарушат достигнутый паритет и позитива не принесут: коллеги (так называемые) дождутся случая адекватно уконтрапупить. Урыть. Фрагментарное торжество над ничтожествами — слабое утешение. Набросятся, сведут счеты, растерзают, сожрут с потрохами. Или будут тихо подло мстить, изводить, шпынять. Нет, если уж выживать, то выживать полноценно. А не в склочных перипетиях.
Для чего? Этим вопросом он терзался. Для чего тянуть, длить канитель притворства, угодничества, пресмыкательства, самоунижения? И в итоге — самоутраты? И отодвигал определенный ответ из-за неясности перспективы.
Женился — неудачно. Поначалу казалось: избранница его понимает и сочувствует. Она в ту весну, когда начали взасос хороводиться, выглядела привлекательно, он тешился иллюзией: повезло, встретил — такую же, как он сам, болезненно ранимую, недооцененную, хрупкую. Реальность оказалась грубее. Тростиночка обабилась, практицизм в ней (вероятно, тщательно замаскированный в целях замужества) возобладал, пилила его ради удовольствия пилить и зудеть (мелкая сварливая душонка!), семейное неблагополучие становилось очевидным.
Все неискренни. Эту привходящесть он обнаружил уже вначале своих размышлительных бдений. Произносят одно, имеют в виду другое. Говорят не то, что говорят. Артикулируют: «Рад видеть», а подразумевают: «Чтоб ты сдох!» Вот и супруга обманула, обернулась хамелеоншей. Надо было проявить осторожность, раскусить хитрованку, а он повелся, значит, некого винить, кроме себя. Нет проку вывозить ей о неопрятности, бесхозяйственности, лени. Никто не властен переиначить генетически вылепленную натуру. А способен лишь пунктирно мимикрировать, создавать впечатление — с целью выгадать мизер. Настолько жалкий, что и хлопотать-то о нем всерьез постыдно… Констатация не удручила. Был готов к метаморфозе. Окончательно замкнулся в беспросветном мирке. К беспросветности давно тяготел.
О себе сознавал: из возвышенно настроенного романтика превратился в приземленного выжигу, выгрызавшего крохи и подачки.
«Ради чего длить-тянуть лямку? Ради кого? — продолжал изводить себя он бессонными ночами. — Ради дуры-жены? Или подрастающей дочери?»
Дочь — некрасивая слабенькая глиста — разочаровывала отчаянно.
Собственные «двойки» и «тройки» в школе не воспринимались обидными, утешало: не в кого быть светочем, предки — образец усредненности, а то и дебилизма. Вот и не состоялся, не взорлил. На дочь возлагал надежды. Наивно полагал: предпосылки и потенция наличествуют. Постепенно настигло и открылось: глупыхе не дано ни семи, ни двух пядей во лбу, ее шансы меньше, чем у него когдатошнего. Полая (пока не забеременела) кукла! Лупоглазая пустышка! А забеременеет — будет матрешка!
Втемяшивал в свое упрямо сопротивлявшееся сознание: обязан сделать так, чтоб беспомощная нюня прошагала по расстилающейся пустыне равнодушия и жестокости с минимальными травмами и потерями, снабдить образованием, спроворить хоть какого женишка и приискать должность (достойно оплачиваемую), ибо в ответе за впопыхах, неразумно произведенное неприспособленное чадо.
Но что он мог — если еле удерживался на говенном окладе в говенной затхлой конторе? С кем мог познакомить, свести теху — кроме задрипанных клерков, коим нужна не женщина и ее порядочность, а (как минимум) покровительство нерядового тестя?
Бесило воцарившееся засилье псевдокумиров, псевдоавторитетов, псевдоправоискателей. Безголосые кривляки самопровозглашались солистами, уродливые мегеры и манерные вертихвостки корчили из себя звезд подиума и трясли сомнительными силиконовыми прелестями, назначенные политиками ублюдочные дутые болтуны бесстыдно тянули на себя одеяло популярности, лощеные олигархи, чьи банковские счета пополнялись по блату из госказны, расточали басни о том, как разбогатели… Буйно бурлящее, захлестывающее планету безумие вызывало бессильное бешенство, нагнетало непобедимую усталость. Не покидало ощущение: живет по соседству с сумасшедшим домом. Не внутри, не в эпицентре лечебницы, где не лечат, а провоцируют болезнь, а — на отшибе. Он оберегал свое окраинное положение.
Включал телевизор — и ощеривался на участников бесконечных бессмысленных толковищ. Телесериалы доводили до изжоги.
Отправлялся в поликлинику и заранее ненавидел неквалифицированных врачей.
В театре и кинозале исходил язвительностью: бездари, удобно угнездившиеся в толстых складках неповоротливого чиновничьего, пробавлявшегося откатами аппарата, молотили монстрообразную халтуру, сосали из бюджета народные миллионы.
Зряшные коммунальные работники и уличные ремонтные аферы недостойны были даже сардонической усмешки.
Жена — воплощала идиосинкразию.
Дочка — обвал, крах мечтаний.
Коллектив, где трудился, наградили дипломом — за успехи, а он ернически ухмылялся: если первую букву торжественного слова «грамота» заменить, распахнется истинная картина творящегося: «срамота»!
Застольные панегирические разглагольствования приятелей о самих себе, в которых самовлюбленцы перечисляли собственные заслуги, претили несообразностью. Хвастуны не понимали, сколь смешны…
Ехал в транспорте и испепелял пассажиров: удручающе неотличимые стоеросы сидели и стояли, уткнувшись в экраны мобильников или газеты, пробавлялись пожухшей информацией и прогорклыми кнопочными забавами. На остановках вагоны и салоны опорожнялись, как кишки от каловой массы, чтобы тут же снова ею наполниться.
Некуда было деться из запущенного раз и навсегда (как заводная механическая игрушка) коловращения. По привычке он петлял, изворачивался, обползал грозящие разоблачением его тайной мизантропии препятствия. Душевный вакуум зиял-сверкал дырами — незадавшейся судьбы. Но разве она сулила, обещала успех? Нет, не прятала удел — стандартного никчемушника, статиста невзрачного калибра.
Жена не успела узнать его жестокости. Он бы не стал за ней ухаживать, останься она прикована параличом к постели.
Дочь звонила и хныкала: «Я всеми брошена!» Он осаживал: «У каждого своя планида. Надлежит нести крест безропотно».
Не назло кому-то (а только себе назло) длил волокиту повседневности — она лучше лежания на спине с постной обострившейся рожей в готовом отправиться в огнедышащую печь ящике. Не обольщался: его уход не вызовет чьего-либо огорчения (а лишь вынужденные раздражающие хлопоты погребения), не произведет ажиотаж в связи с открывшейся вакансией (по убытию прежней занимавшей скромный пост сошки).
Внутри остывающего тела дотлевали головешки чувств. Выжигавшее пламя улеглось, костер ярости съежился. Обездоленность резанула с особой остротой после казенной панихиды. Штиль прижизненной маяты преобразовался в послесмертный штиль. Ад разверзся — уже снаружи — кипящей в котле вулкана лавой.
В преисподней было много таких, как он, объятых всепожирающим пожаром поленьев. Косматые кочегары подбрасывали новые дрова, а Любивший Всех Огнеборец — в белых одеждах — ходил меж стонущих, вопящих или стоически стискивающих зубы и увещевал:
— Что с собой сделали? Не потушили первые всполохи! Теперь крайне сложно их унять.