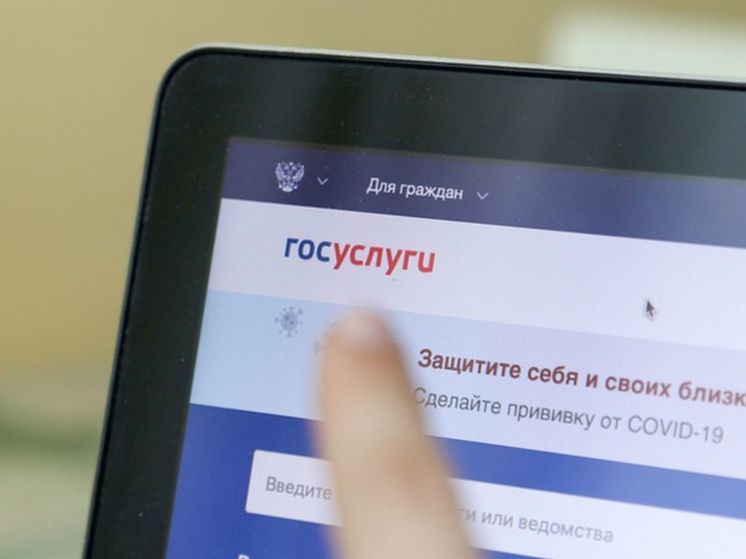У актера Сергея Маковецкого — горячая осень. В таких случаях принято говорить, что выдалась она урожайной. Сначала в Венеции показали фильм Никиты Михалкова “12”, где Маковецкий сыграл физика, заварившего кашу длинного разговора о самом важном. Почти одновременно с этой судебной драмой вышла семейная драма Сергея Ашкенази “Искушение” — там у Маковецкого роль отца, который стал соперником своему младшему сыну и жестоко поплатился за охватившую его страсть. А сейчас на экранах идет “Русская игра” Павла Чухрая по гоголевским “Игрокам”, и там царит совсем другой Маковецкий — завзятый картежник, лихой шулер, азартный аферист.
“Казино и игровые автоматы обхожу стороной”
— Ты сам азартен?
— Очень. Так завожусь, что не могу остановиться. Знаю о себе это и все казино с рулетками и залы с автоматами стараюсь обходить стороной.
— Были неприятные случаи?
— Ох, не хочется даже и вспоминать. Однажды отмечали открытие фестиваля. Я уже не помню, что это был за фестиваль и какое казино по такому случаю арендовали, но туда пригласили только артистов. Нам раздали фишки и говорят: играйте, господа, делайте ставки. Я поставил, и пришла именно моя цифра. Повезло. И тут же возник азарт, причем очень нехороший. Ведь когда азарт остро дает о себе знать? Когда ты играешь в первый раз и, не дай бог, выигрываешь. Есть люди, которые ставят, выигрывают, забирают деньги, говорят “спасибо” и уходят. Судя по всему, я не такой. Я поймал себя на том, что так просто отсюда не уйду. У меня даже руки задрожали, можешь себе представить? Тогда я испугался своего внутреннего движения к чему-то крайне неприятному. Это страшно затягивает, ты перестаешь быть хозяином самому себе. Упаси бог.
— Это уже не азарт, а самая настоящая алчность.
— Именно. Открываешь в себе страшноватые вещи — а зачем их открывать? Лучше не надо. Алчность — она от дьявола, а азарт может быть от бога. Например, азарт в работе, в творчестве — ничего дурного в нем нет. Там другие энергии вихрятся, светлые. Там кровь совсем другим веществом наполняется.
— Ну, в крайних проявлениях этот азарт тоже может стать болезнью.
— Пока что я крайностей за собой не замечал. Что ты имеешь в виду? Я же вменяемый человек и не стану, например, всерьез душить на сцене Дездемону, войдя в небывалый раж. А потом еще и контрольным выстрелом дело завершать.
— Уверен, что не станешь. Хотя бы потому, что в вахтанговском спектакле ты играешь Яго.
— Больше не играю. Этот спектакль сняли, к сожалению.
— Актеру вообще сложно быть хозяином самому себе — такая профессия. И жертвы рулетки среди вашего брата встречаются. Некоторые твои коллеги, я знаю, готовы за один вечер спустить в казино гонорар за крупную роль.
— Гонорар... Я знаю тех, кто свою жизнь готов заложить.
— Даже так?
— Ну, если люди проигрывают дома и квартиры, залезают в безумные долги, которые нечем отдавать, разве это не значит — поставить на кон жизнь? Поэтому нет, ребята, эти игры — без меня. Зайти и полюбопытствовать со стороны — пожалуйста, а сесть с вами за стол — нет.
— Даже в карты ни-ни?
— Никогда не играл и не играю.
— Знаешь, на кого ты сейчас похож? На своего Городничего из спектакля по “Ревизору”, опять же гоголевскому.
— Да-да. Стоит мне увидеть бубнового короля — сразу такое омерзение нападает... Кстати, “Ревизора” тоже сняли с репертуара.
— Что же это у вас в Вахтанговском — чего ни хватишься, ничего нет?
— Много названий в афише. Одни появляются, другие исчезают.
— Иначе спектакль, который из-за столпотворения названий играют редко, неминуемо “развинчивается” и приходит в негодность?
— Есть такое. Мы сейчас “Амфитриона” играем раз в месяц и “Чайку” тоже только раз. Конечно, это им не на пользу. Но тут все зависит от исполнителей. Мы стараемся свои спектакли держать, иногда из последних сил. Это бывает тяжело. Особенно когда спектакль играют редко, а живет он долго: пять, восемь, десять лет. С другой стороны, “Черный монах” довольно давно в ТЮЗе идет, но с ним ничего не происходит.
— Важны еще сила и качество энергии, заложенной в спектакль автором.
— Конечно. А также — отношение к нему исполнителей.
— Ну, да. Если спектакль актерам надоедает, они его, наверное, нехотя донашивают?
— Замечательное слово, точное. Именно донашивают. Но в таком случае лучше снять его и чего-нибудь новенькое “надеть”.
“Михалков посадил меня на иглу”
— Что новенькое ты сейчас “носишь” в кино?
— В “Утомленных солнцем-2” играю капитана Лунина, смершевца.
— Смершевцы в нашем кино теперь опять не злодеи, а отличные парни, чуть ли не мушкетеры короля. О них бравурные сериалы снимают. Твой Лунин тоже герой?
— Он очень любопытный тип, неоднозначный. Может предельно жестко вести себя на допросе, может убить. А потом так спокойно сказать “пойду пройдусь” — и направиться вместе с главным героем Котовым под фашистские пули. Мне интересно играть такого человека.
— Большая роль?
— Недели две съемок. Огромная сцена с Олегом Меньшиковым в конце первой части и блок страшных сцен во второй — там штурм неприступной “Цитадели”, кромешный ад. Я прочитал сценарий вторых “Утомленных” залпом. И самыми важными показались мне финальные слова о том, что человек — такое существо, которое все же есть за что любить.
— А ты сомневался?
— Был период в жизни, когда сомневался. Не был уверен, можно ли вообще любить человека как такового — со всеми его проблемами, заблуждениями, ошибками, пороками...
— Михалков тебя убедил, что можно?
— Наверное, поставил точку в цепи доказательств.
— Он позвал тебя играть в “Утомленных” еще во время съемок “Двенадцати”?
— Уже после, и я был очень рад. Когда получаешь прививку Михалкова, потом хочешь еще и еще.
— Это не прививка. Прививку делают, чтобы вызвать отторжение. Это михалковский наркотик. Получается, он тебя на иглу посадил?
— Считай, что на иглу. Есть огромное желание работать с ним и дальше.
— Тебя не смутило его требование сбрить для роли волосы с макушки?
— Не смутило. Я понял, что так нужно.
— А как Михалков мотивировал обязательную залысину твоего героя?
— Меня убедил образ, который я увидел в компьютере.
— Что, все 12 человек были заранее смоделированы?
— Да, каждый персонаж. Правда, класс? Там была проделана просто фантастическая подготовительная работа. И когда я увидел свой персонаж на мониторе, мне это понравилось. Лысеющий мужчина с увеличенным лбом. И я пошел на то, чтобы сбрить волосы, раз уж невозможно сделать “пластику”.
— На самом деле невозможно?
— Во-первых, ее уровень все еще оставляет желать лучшего, хотя иногда встречаешься с удивительными пластическими решениями, которые здорово воплощены. Но тут был особый случай. Каждый день залысина поверх волос, кропотливейшая работа, как минимум 6 часов на гриме ежедневно — при нашем режиме съемок это было просто невозможно.
— О том, как Михалков работает с актерами, ходят легенды. Их слагают те актеры, которые у него снимались, а те, которые не снимались, жадно слушают, и у них складываются свои представления о том, как волшебно все это происходит. Твои представления и ожидания оправдались?
— Более чем. Никита Сергеевич удивительно умеет держать нужную атмосферу на площадке. Только начнется шум, как он: “Стоп, ребята. Мы сняли дубль, но еще не сняли сценку. Я вас прошу, чтоб между дублями была тишина”. И он абсолютно прав. Дубль снят, но ты находишься внутри сцены, и любой посторонний шум тебя отвлекает, может вывести из состояния на раз.
— С шумом у него строго. Я видел, как оператор Влад Опельянц ходил по съемочной площадке в войлочных тапках. А цыкнуть Михалков может?
— Конечно. Но только не на артиста. Тут категорически нет.
— А мне его дочка Надя говорила, что вообще-то и на артиста может, но только если давно с ним работает и хорошо знаком.
— Я снимался у Никиты Сергеевича впервые и на себе такого не испытал. Да и при мне подобного не было. Ему ничего не стоит заставить артиста исполнить его волю, сыграть в нужном рисунке. Но ему этого не надо. Он будет терпеливо и долго, сколько потребуется, объяснять. Хочет, чтобы актер сам почувствовал, что ему надо идти именно в эту сторону, и добровольно туда пошел. Терпение невероятное.
— Могу представить. Одиннадцать — не считая Михалкова — звезд на одно “одеяло”, и каждый норовит на себя его потянуть?
— Никто не тянул. Конечно, у каждого были свои предложения, Михалков их выслушивал, говорил: “Умница, молодец, отлично. Только мы еще дальше пойдем”. Это был живой процесс, и благодаря этому мы все такие живые в кадре. Ни один не сидит и не ждет, как бы поскорее свою реплику ввернуть.
“Любовь — это болезнь мозга”
— Подробные застольные репетиции перед съемками были для тебя, театрального актера, как именины сердца?
— Это невероятно здорово. Потом у нас так же все происходило и с Пашей Чухраем на “Русской игре”. Мы сидели, разминали текст, разбирали ситуации… Слава богу, режиссеры такого уровня, как Михалков и Чухрай, понимают, что, несмотря на всю производственную гонку, лабораторная работа необходима. Когда найден общий язык с партнерами, когда вы договорились, о чем и в каком жанре играете, когда вы поняли, кто ваши персонажи и какие импульсы ими движут, — вам в кадре гораздо легче, ваша актерская свобода гораздо богаче.
— Можно я спущусь с горних высей творчества на коммерческую землю? Такая тщательная работа означает еще и затраченное время, а время — это деньги. Двенадцать часов смены, дальше — переработка. Или у тебя в контракте прописана аккордная сумма за роль без учета часов и минут?
— У меня в контракте указана продолжительность смены, но, поверь, ни один хороший артист в таких случаях не закричит о переработке. Этим мы все еще отличаемся от Запада. Там звоночек прозвенел — и все. Смена окончена. А у нас, если сцена пошла, если все стало получаться — никто не взглянет на часы и не закричит: “Ребята, уже сорок минут лишних!” Ведь сцена идет — о чем тут может быть речь?
— Ну это у Михалкова. Или ты со всеми режиссерами так работаешь?
— Вот моя роль в фильме Сергея Ашкенази “Искушение”. Драма отца, потерявшего младшего сына. Тут и ощущение своей вины, и желание оправдаться, и страх окончательно потерять еще и старшего сына, которого бросил семнадцать лет назад, за что и понес страшное наказание. А одновременно — страсть к девочке, дикая страсть, с которой ничего невозможно поделать. Одни видят в этом глубокое чувство, другие — вожделение к молодому телу. Но Авиценна, великий врач, считал любовь болезнью мозга. Вот и мой герой признается: “Я заболел”. Помнишь предфинальный монолог, который я произношу на ходу, в движении? Снято одним куском. Ты можешь представить себе его величину. Надо пробежать без остановки 300 метров и говорить, говорить, учитывая все нюансы и перепады эмоций. Надеюсь, ты понимаешь, сколько времени заняла работа над одним только этим монологом. Думал ли я о переработке?..
— А если партнеру такая тщательность ни к чему? Юное поколение, боюсь, не всегда так трепетно подходит к роли, как ваше?
— Да, меня иногда спрашивают про того или другого молодого артиста: как он вам? Я говорю: сейчас есть много способных, даже талантливых ребят — в чем их счастье и в чем их беда? Счастье в том, что у них есть работа. Сериалы рвут их на части, есть возможность выбирать. А опасность в том, что всерьез ими никто не занимается. Я ведь и от опытных актеров со старой школой знаю, как зачастую бывает.
— И как же?
— Таня Догилева рассказывала, что недавно пришла на съемочную площадку, а партнер ей: “Давай быстренько текст покидаем”. Она ему: “Погоди, давай дождемся режиссера и тогда уже вместе с ним все пройдем”. На что партнер спокойно ей заявляет: “Да он не придет”. Я спрашиваю у Тани: “И что?” “Так и не пришел”, — говорит. Вернее, пришел, сел в углу перед своим монитором: “Ну, вы готовы? Снимаем”. Так теперь у нас все происходит. А ты меня про переработки у Михалкова и Чухрая спрашиваешь. Да они — за счастье.