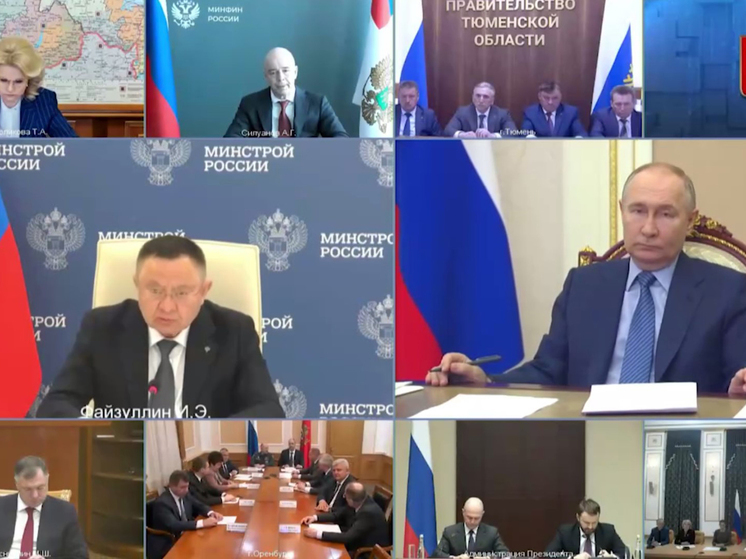Его книга "Поэтический космос" имела трудную судьбу в России, зато переведена и издана в Японии. Другая книга — "Мета-метафора" позволяет заглянуть в совсем иной мир, не очень доступный поверхностному уму. —Давно слышала о вашем дворянском происхождении. Вы чуть ли не потомок Рюриковичей? — Отец мой был режиссером и комическим актером. Мать — актриса. Мой прадед, Федор Сергеевич Челищев, умер в год моего рождения. Род Челищевых восходит к герцогу Вильгельму Люнебургскому, участнику крестовых походов. Мой предок Андрей Бренко был крестником Калиты и женился на его внучке Марии Углицкой. Сын его, Михаил Бренко, племянник Дмитрия Донского, воевода и оруженосец, на Куликовом поле был разрублен в доспехах Донского — в чело! По преданию, именно с тех пор род получил фамилию Челищевых. У Кипренского есть портрет мальчика Челищева — вылитая копия моей двоюродной бабушки. Ее брат, мой двоюродный дедушка, художник Павел Челищев, покинул Россию вместе с армией Деникина в 19-м году. 18-летний подросток захватил с собой узелок с красками и стал художником. В Париже и в Берлине познакомился с группой Дягилева, оформил "Орфей" Стравинского. Композитор оставил воспоминание о нем как о мистике и астрологе. — У вас славные предки. Ваша собственная судьба складывалась благополучно? — После предварительной кафедральной защиты диссертации "Поэтический космос" в 84-м году появилась статья в "Литературном обозрении" "На стыке мистики и науки", половина которой была посвящена разносу рериховцев, половина — моим идеям. В Литературный институт пришли два офицера КГБ и потребовали моего отстранения от преподавания. И с 86-го по 91-й годы длился мой вынужденный педагогический простой. — Поэты Серебряного века догадывались о своей связи с космической жизнью. Не потому ли так захватывающе читается диалог с небом у Маяковского, Белого?.. — Безусловно. Что в мире называют "русским космизмом", в большей степени относится не к философии, а именно к поэзии. Самым главным ощущением своей жизни Андрей Белый назвал пережитое им на пирамиде Хеопса: "Сам себя обволок Зодиаком". Он попытался это передать в романе "Петербург", но, на мой взгляд, у него это не очень получилось. Раннему Маяковскому удалось найти эту форму выражения. То, что у нас называют понятием "футуризм", "авангард", — это и есть прорыв в космическое пространство. Коммунисты уничтожили Иверскую часовню. А художник Лентулов написал картину "Иверская часовня". Слава Богу, ее стали выставлять. Около нее в Третьяковке посетители всегда стоят в глубокой задумчивости. — Лентулов — великолепный живописец... — Гениальный. Он дружил с философом и священником Введенским. Внутреннее пространство часовни художник вынес наружу, как бы вывернул ее. Увидев эту картину Лентулова на выставке, министерша Фурцева изрекла размашисто: "Руки оторвать тому, кто это выставил!" — Да-а, суровая была! — Суровая — это не то слово. Они были настоящими гениями зла. Уничтожали самое-самое лучшее. — Убили не только Гумилева и Мандельштама. Маяковского постарались отправить на тот свет... — Я думаю, его просто убили. Дело не в том, нажал ли он на курок. История очень странная. В предсмертные месяцы к нему домой запросто захаживали профессиональные убийцы Агранов и Эльберт — не случайно поселили поэта рядом с Лубянкой. Они были специалистами по экзотическим, таинственным убийствам: кого за ноги утащат под воду во время купания на даче, кого случайным выстрелом уложат на охоте, кого в электричке спустят под колеса. Убежден, что Маяковского убили. Я видел, как дрожала Вероника Витольдовна Полонская, когда об этом заходила речь и ей надо было нести ахинею, которую ей строго внушили. — Уничтожили Маяковского не за сатирические вещи, хотя и здесь удары поэта по власти слишком размашисты и смелы для тех времен... — В пьесе "Баня" он основательно задел Сталина, вывел его в Главначпупсе. Там были буквально цитаты из Сталина: "Изобразите меня сидящим за столом, как сидящим на коне". Ведь Иосиф Виссарионович считал себя основателем Первой Конной, хотя основал ее Тухачевский. Художник Исаак Бродский написал апологетическую картину "Сталин и Ворошилов приветствуют парад Первой Конной". А когда приехали в Москву великие модернисты Давид Сикейрос и Диего Ривера, исповедовавшие коммунистическую идеологию, Сталин их принял. Независимые дерзатели, не оценив опасности, спросили вождя в лоб: "Что это футуристов у вас зажимают?" Сталин глубокомысленно изрек: "Революция в жизни и революция в искусстве вовсе не обязательно совпадают. Я думаю, что победившему рабочему классу ближе всего будет искусство революционного классицизма, в стиле французского классицизма". В "Бане" поэт прекрасно это обыграл: "Стили бывают разных Луев"... "Сделайте мне красиво". Маяковский буквально цитирует "великого кормчего". — Поэту очень навредила фраза Сталина: "Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи". — Эта фраза нужна была вождю для отмывки. Он воспользовался письмом Лили Брик к нему, где она вопрошала, почему зажимают Маяковского. Безусловно, без приказа, без указания Сталина не могли зажимать гениального поэта. Он понимал: запрети Маяковского — слава его возрастет еще больше. И он устроил театр — написал эту фразу. — А теперь, когда советское время кончилось, люди, сами служившие режиму, валят бремя вины на Маяковского — дескать, воспевал, восторгался... — Они плохо знают историю искусства. Если мы пойдем по пути упреков, то давайте откажемся от Овидия, писавшего оды, от Горация, воспевавшего императора. Ведь поэт — более беззащитное существо, чем все остальные. С Маяковским вот что произошло: поэты гениальные и влюбляются гениально. Владим Владимыч влюбился в Лилю Брик. Влюбился — так уж влюбился. — "Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа..." — писал он в стихотворении "Лиличка". — А Лиле нравились не лирические стихи — ей нужны были революционные поэмы. Поэт не для страны их писал! — для Лили. Для ее мужа Осипа Брика. Лиличке понравилось — он еще написал. А она повторяла, как попугайчик, что ей внушил Ося, этот литературоведческий сухостой, теоретик революции. Как все фанатики, он невольно нанес поэзии немалый вред. — Поэты чувствовали себя будетлянами... — Их трагедия в том, что они предсказывали светлое будущее в ближайшее время. А на самом деле они заглянули не на десятки лет вперед, а в вечность. Я для себя сделал одно важное открытие: читая Маяковского, я чувствовал что-то очень знакомое. И вдруг вспомнилось самое сильное мое впечатление, когда впервые услышал православную службу. Перечитал Маяковского. Так это же "Глас третий". Пасхальный! Ликующий: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ. И сущим во гробех живот даровав". Речитативный и молитвенный строй — и есть ритмика поэзии Маяковского. — Не кажется ли вам, что в самой атмосфере Серебряного века растворилась какая-то мощная космическая энергия, оплодотворившая целое поколение поэтов? — Ну просто не протолкнешься от гениев: только среди футуристов — Хлебников, Маяковский, там же и Пастернак. Похожее творилось и в живописи, особенно в 19-м году. Там тот же гигантский прорыв, в частности "Черный квадрат" Малевича. Черный на белом, белый на черном, белый на белом... Это же не просто так. Казимир Малевич сказал: "Я открыл бездну. За мной авиаторы". Белый квадрат на черном — это сама бесконечность. Теперь иные говорят: "Я тоже так нарисую". Теперь — да. И после художника Лентулова можно переписать его "Иверскую часовню". Но получится просто копирование приема, но не чувства, которое охватило Лентулова или Малевича. Или Маяковского. В начале ХХ века человечество открыло для себя другое пространство. Люди знали верх, низ, право, лево. И вдруг откровение: можно двигаться от внешнего к внутреннему! Можно на ракете вылететь в космос, а можно внешнее пространство прочувствовать как свое. И наоборот: внутреннюю свою сущность — как пространство космоса. Произошел тот переворот в сознании, который в поэзии назвали футуризмом, в живописи — супрематизмом. — Футуристу Маяковскому всеобщее отчаяние приносит мысль о сумасшедших домах. Экспрессия чувств в поэме "Облако в штанах" выражена эпатирующим выворачиванием наружу: "...Сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, Бурлюк. Почти окровавив исслезённые веки, вылез, встал, пошел и с нежностью, неожиданной в жирном человеке, взял и сказал: "Хорошо!". И поэт подхватывает: "Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана". — Кстати, многие не замечают, что поэма "Хорошо!" вышла отсюда. Поэт не заискивал перед властью. Придирчивые критики имеют право упрекнуть его в малой образованности: гимназия и училище живописи, ваяния и зодчества... — В его поэзии — знание мировой культуры. — В том-то и дело. В "Облаке" — и Овидий, и Вергилий, и Гете. Поистине "Солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи". Нужен был грандиозный масштаб личности, чтобы вести напряженный диалог с небом: "Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо". — Маяковский шутил, обращаясь к туповатым критикам: "Приходите лет через сто — там поговорим". 14 апреля исполняется 70 лет со дня смерти поэта. А современное общество не желает читать не только Маяковского, но и вообще поэзию. Музей Маяковского снят ныне с государственного финансирования... — Идет жуткий откат. Даже когда все было запрещено, не было такого отката, который происходит сейчас. Это связано с общим падением культуры. Вообще искусство требует душевного усилия, а торжествует, как правило, духовная обломовщина, все требующее работы ума и души отметается на корню. Как всегда, много званых, но мало избранных. Людей можно понять. Устали от пустых обещаний. 80 лет говорили: вперед, вперед, к светлому будущему. А там — ничего. Глухо. Люди так сильно обманулись, что перестали верить себе и другим. Но в число "других" попали настоящие пророки и гении. Но это ненадолго. Вот посмотрите: американцы раза три открывали Малевича. В 30-х годах — там триумфальная выставка его работ. Потом его забыли. В послевоенные годы снова начали им восхищаться. Затем, вычеркнув из памяти, в третий раз пришли к нему. На его выставке испытали потрясение, что в России такое искусство было аж в 20-х годах. Я думаю, и с поэзией будет похожее. Вторичное открытие неизбежно наступит. Сегодняшнего стихотворного ширпотреба не надо бояться — надо делать свое. — Есть ли, на ваш взгляд, у кого-то из наших сегодняшних собственное стилевое решение? — Поэзия Андрея Вознесенского резко изменилась в последние годы. Он пришел к своему визуальному образу — для глаз! Девяносто процентов информации идет через зрение. Вознесенский с его видеомами, с поиском изобразительности принадлежит будущему. — Поэты очень среднего достоинства отказывают Вознесенскому в своем внимании, считая, что он занимается ерундой, баловством... — Люди не понимают: поэт — это дитя. А дитя играет, а не сидит насупленно-серьезным, изрекающим вечные истины. Уж так повелось в России. У нас постоянная инфекция онегинской болезни: "сплин, иль русская хандра". Ею поражены и стихотворцы, и критики. Может быть, потому, что у нас плохая погода, то ли жизнь наша такая убогая. Конечно, людей, живущих в этом скучнизме, должна раздражать поэзия Маяковского или сегодняшнего Вознесенского. Если поэзия не раздражает, то какая это поэзия? Пушкин тоже в свое время страшно раздражал, злил современников. А уж как злил Лермонтов! Об императоре нельзя сказать, что он не был образованным человеком, — он ведь не член Политбюро. Но и император буквально дрожал от ненависти к Лермонтову. Футуристы были правы: поэт — это тот, кто создает но-во-е! Данте написал "Vita nuova" — "Новую жизнь" — и создал "Божественную комедию", не похожую на "Илиаду". К сожалению, у нас восторжествовал канон. Он насаждался издавна — писать по образцам. Может быть, это идет от старообрядческого переписывания. Но что хорошо для переписчика, губительно для поэта. У нас не поэты, а переписчики. Одни переписывали Лермонтова, другие — Блока, третьи — Есенина. Иные пытались писать под Маяковского, но выходило очень смешно. Настоящему поэту подражать невозможно: он слишком ярок, индивидуален, неповторим. Новое нас бесит, раздражает. У французов то же самое. Когда была первая выставка Пикассо в Париже, соседи с верхних этажей лили кипяток на публику. Обыватель пошел на расходы, чтобы облить то, что его раздражало. Или — Наполеон III пришел на первую выставку импрессионистов, увидел совершенно невинную картину Эдуарда Мане "Завтрак на траве". И огрел ее хлыстом. — Футуристов прекрасно переводят на французский и английский. — Новое легко перевести на любой язык. Это чушь, что якобы метафору трудно переводить. Вот этот прорыв, который произошел во взгляде на поэтическое творчество, я и назвал мета-метафорой. — Новое поэтическое движение вы назвали ДООС — Добровольное Общество Охраны Стрекоз. Куда подевались стрекозы? — Улетели в стихи. "Гаснет радужный крест стрекозы..." — Трудно пришлось вам в период безработицы? — Меня защищала только поэзия. — Тогда вы должны быть счастливым в любви. — Первый мой брак, в 19 лет, был очень коротким. Зато он подарил мне сына. Павлу уже 36 лет. Он по образованию геолог, но философские вещи, о которых я говорю, ему тоже близки. Ему посвящена "Бесконечная", одна из самых любимых моих поэм. — А кто ваша вторая жена? — Поэтесса Елена Кацюба. Мне было 23 года, когда мы с ней встретились. — Быт не давит семью поэтов? — Быта у нас никогда не было. Мы все время что-то делаем. И это что-то — поэзия. Теперь мы вместе издаем мета-газету для поэтов. Наш постоянный автор — Андрей Вознесенский. В редколлегию при жизни входили Генрих Сапгир и Игорь Холин. — Вы как бы возобновили "Цех поэтов". — Совершенно верно. — Я поняла, что вы с женой питаетесь нектаром и амброзией. — Бабушка Лены говорила: "Интеллигентный человек всегда лучше приготовит борщ, чем необразованная кухарка". Так что у нас с борщом все в порядке. — Вы, господин Кедров, — настоящий уникум: и поэт, и доктор философии... — Да, я преподавал в Литинституте 17 лет. Среди моих учеников были и ваш главный редактор Павел Гусев, поэты Алексей Парщиков, Александр Еременко, Илья Кутик, живущий ныне за границей, Мария Арбатова, Полина Дашкова и Егор Радов. Докторскую защитил в 96-м году. Это была веселая защита. В Институте философии Академии наук комиссия шутила: "Вы нас так встряхнули". Я понял, что моя любовь к философии вполне взаимная. Мне и в любви везет. Но любовь — такая тонкая материя, что говорить о ней можно только в стихах. В окруженьи умеренно вянущих роз обмирает в рыданиях лето. Гаснет радужный крест стрекозы, где Христос пригвождается бликами света. Поднимается радужный крест из стрекоз, пригвождается к Господу взор — распинается радужно-светлый Христос на скрещении моря и гор. Крест из моря-горы! Крест из моря-небес! Солнце-лунный мерцающий крест — крест из ночи и дня сквозь тебя и меня двух друг в друга врастающих чресл. Кедров многократно участвовал в международных поэтических фестивалях. Только что в Париже вышел журнал "Озарение", где он включен в десятку лучших поэтов современности.