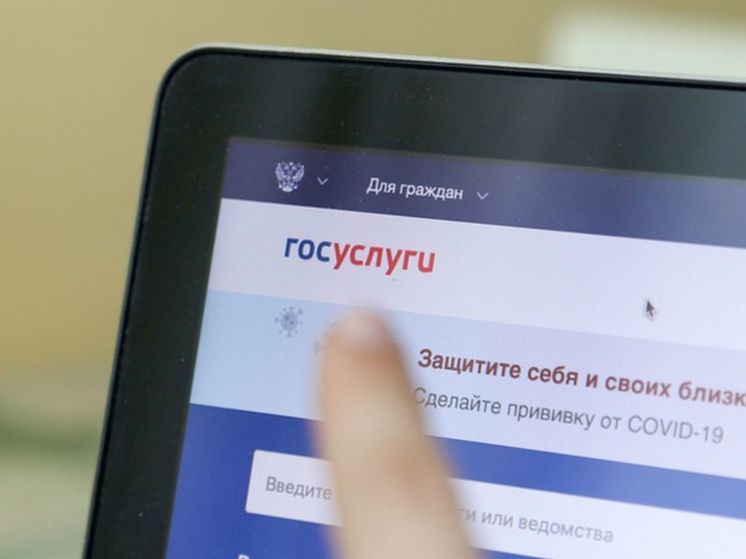В прихожей было темно: ”Сережа, извините, только что перегорела лампочка”, — такими словами меня встретила Нина Сергеевна. Рядом с ней в полутьме терлась Анфиса. Нина Шацкая — знаменитая жена знаменитого мужа, а Анфиса — просто белая длинношерстная кошка ленивой порядочности. Не выйти встретить гостя она не может, но подлизываться к нему считает ниже своего достоинства. Мне это близко. Однако в кухню, где меня ждал актер и писатель, я шел со слегка подрагивающими коленями. Несмотря на то, что мы с ним земляки, — оба выходцы из Туркмении советских времен...
Из досье “МК”. Леонид Алексеевич ФИЛАТОВ, народный артист России. Родился 24 декабря 1946 года. Отец — Филатов Алексей Еремеевич (1910 г. р.). Мать — Филатова Клавдия Николаевна (1924 г. р.). Супруга — Филатова (Шацкая) Нина Сергеевна, актриса театра и кино, окончила ГИТИС имени А.В.Луначарского. Имеет сына от первого брака.
— Леонид Алексеевич, вы родились в Казани, а не в Ашхабаде, как многие думают...
— Да. И до шести лет я жил в России. А вот в шесть уже переехал в Ашхабад с мамой. В первый год в школу меня не взяли, сказали: “Какой-то он слабенький, чахлый, не потянет, год подождем”. Очень был непредставительный. Я был так неудобно рожден — в конце года, мне уже вроде не шесть, но и не семь. Отец в геологоразведке работал — радистом. Он уже умер. Мама жива до сих пор. Она по профессии инженер-экономист. Они разошлись в 53-м году. Я еще был клоп. Жил то у мамы в Пензе, то у отца в Ашхабаде, чаще всего у отца, потому что уже школа началась, ребята, трудновато перепривыкать.
— Вы уже в школе начали писать стихи, ставить спектакли...
— Да ну, кто не пишет в школе? Только ленивый.
— Но это была только одна сторона вашей натуры. По-моему, вы и подраться любили?
— Это место обитания такое было. Ашхабад в годы моей юности не сказать чтоб уголовный, но... южный город, смешение национальностей, темпераментов. Там и армяне, и украинцы, и евреи, и грузины, и туркмены, разумеется. И понятно, что проводить девочку вечером было мероприятие небезопасное. В этих республиках надо рождаться аборигеном. Однако тогда время было... (Подбирает слово. — С.Х.) Мне вот слово “еврей” объяснили в Москве. Живя в Ашхабаде, я это плохо понимал, ну еврей и еврей. И чем плох еврей, объяснила “великодушная” Москва. Здесь в пору моей юности, уже на излете, правда, но оставались осколки государственной идеологии антисемитизма. Антисемитизм, как известно, придуман интеллигенцией. Не народом. Потому что бабушка за 300 км от Москвы не поймет, о чем речь, если ее спросят: вы евреев любите или не любите? И там про это даже не думали.
— Насколько я знаю, вы актером не собирались быть. Поехали поступать во ВГИК на режиссерский, не зная, что для этого факультета нужен был стаж, режиссерская разработка.
— Да, это опять в силу только своего невежества. Я был киноманом. Приехал, выучил басню Феликса Кривина. Все остальное были мои собственные попытки... буреломные. Это все от невежества, по дикости. Мол, кто не знает, не поймет. Хотя всем было очевидно, что это самоделки. Это было нахальство молодое.
— А когда вы стали это понимать? Когда Щукинское закончили?
— Нет, это было уже на втором курсе. Во ВГИК я не поступил, а у меня денег раз-два и обчелся. Возвращаться не хотелось. Друг говорит: да сходи на артиста. Я говорю: да кому ж я нужен там. Ну сходи, басню ты знаешь, стишок у тебя есть, проза тоже какая-никакая... Мне казалось — зацепиться. Мизинцем подержаться за Москву. А в Москве тогда был один из первых фестивалей киношных. Это был год, когда Феллини дали приз за “Восемь с половиной”. Тогда венгр такой — Андраш Ковач — снимал заурядные фильмы про рабочих. Приз решили дать ему. А венгр оказался... Когда ему вручили этот приз, он спустился в зал, где сидел Феллини, и у ног его поставил. Были овации, и никто уже ничего не мог сделать — ни Фурцева, никто. В этот год я как раз ходил на фестиваль. Эта история прошла мимо меня. Я накупил абонементов в разные кинотеатры. Причем — тоже идиот! — я ж не знал, что кинотеатры друг от друга далеко, Москва-то большая, в метро только-только приноровился ездить, а все сеансы впритык. И я везде опаздывал. В голове была каша, а отказаться от этого наркотика я уже не мог. И из-за того, что днем я смотрел фильмы, а экзамены принимали до семи, я приходил к шести. К этому времени там мотались какие-то люди не очень выразительного вида, мне казалось, тоже провинциалы вроде меня, обтрепанные такие, непрезентабельные. Если уж такие ходят поступать, то чего ж я-то? Так я потихоньку один тур прошел, потом второй, третий, а на четвертом без этюдов меня взяли. И я стал учиться.
А на второй год студенты, уже второкурсники, как бы наблюдают, как проходят экзамены, сидят в комиссиях разных, пижонят, вроде они уже что-то понимают, чтоб между себе подобными возвыситься. И я посмотрел, что это за очередь, что это за улица Вахтангова до Арбата забитая, просто такая неподвижная толпа, слезы, истерики и мам, и пап, и валидол, и... Я подумал: боже мой, что же это я? Если б я это видел год назад, я бы даже не сунулся! Вот так и получилось, что я доучился. А потом позвал к себе Любимов (в Театр на Таганке. — С.Х.).
— Вам опять повезло. Вы сразу попали в один из лучших театров.
— Для артистов он не был лучшим. Он уже был успешный, уже были имена там свои, но мне некоторые педагоги мои говорили: ну что ты, ты покажись туда, туда, туда... Мы тебе в Пушкинском устроим показ. Пойми, Таганка — это индустриальный театр, там органично разговаривающему артисту делать нечего. Там все орут, перекрикивая балки, скрипы, шумы, падения... Но я пошел все-таки.
— 24 декабря — ваш день рождения. Вы Козерог — человек упорный и упрямый в том числе. Это вам мешало в жизни?
— Вообще-то я человек ленивый. Тем более когда болезнь случилась. Я не занят ни в театре, ни в кино. Сижу дома, чирикаю ручкой, царапаю. И все это делаю ленясь. У меня никогда не было такого — у-у-у (показывает жестом взрывной напор. — С.Х.). Написал ерунду, но тогда, когда захотел.
— “Когда б вы знали, из какого сора...”?
— Ну, конечно. Появилась строчка, начинаешь соображать, куда приткнуть. Пока соображаешь, она становится главной. Хотя сами раздумья-то вроде пустяк, но из-за того, что они органичны, они выражают все твое мировоззрение.
— Вы производите впечатление человека очень аскетичного. Это от природы в вас заложено или все-таки результат самоограничения?
— Да ни в чем я себя не ограничиваю, просто тощий, вот и все. Когда человек тощий, все думают, либо он монах, либо чахоточный, то есть несчастный. А я просыпаюсь поздно, потому что ложусь поздно. Смотрю телевизор, у меня есть “тарелка”. В основном художественные фильмы. У меня две программы — фильмы 2001—2002 годов. Много барахла. В мире вообще много барахла, не только у нас.
— А сериалы смотрите?
— Редко. И то только наши. А всякие Венесуэлы и прочее...
— А как вам в реальном времени?
— Мне много чего не нравится, но... Плохая музыка, плохие тексты — да, но никто же из них не уверяет, что он Тютчев. Время такое — потребление глупости. Это пройдет. Неминуемо. Уже пришли новые артисты. Ни в одном поколении не было такой мощи. Сережа Безруков, Женя Миронов, Володя Машков, Владик Галкин — столько талантливых людей и судьба такая стремительная. В нашем поколении не было таких. Судеб таких не было, а не талантов.
— А сколько трагедий! Сергей Бодров...
— Очень хороший актер. И беда большая.
— Надо же было сползти этому леднику именно в этот момент...
— Все, конечно, не без участия высших сил. Почему, скажем, умирает хороший человек? Значит, все. Израсходован ресурс жизни. Он сделал все, что мог, дальше будет тираж. Такие люди избавлены от массы вещей ненужных, от мелкоты, суеты существования. Хотя говорят, что Бог дает легкую смерть праведникам, а люди, которые уходят мучительно... это все-таки расплата за что-то, совершенное при жизни.
— И ваш инсульт, что случился в 93-м, тоже расплата?
— Конечно. И количество вин только расширилось. Вроде все ерунда, а вспомнишь, что за этой ерундой стояло, и ахнешь. Все возвращается на круги своя. Наше беспамятство собственное возвращается.
— Раз уж мы коснулись мистики... Есть такая мысль, что ваша болезнь связана и с тем, что вы взялись делать передачу “Чтобы помнили”. Как сказал, по-моему, Ницше: “Если долго вглядываешься в пропасть, пропасть начинает вглядываться в тебя”.
— Не думаю, что это взаимосвязанные вещи. Другой вопрос, что когда наблюдаешь таких судеб много, начинаешь задумываться: почему одним выпадает такое, а другим... Ответов тут миллион и ни одного. Слово изреченное есть ложь. Фраза категорическая, она одномерная, она требует массу сносок и комментариев.
Я устал реагировать на частности. Я очень много на них реагировал. А проходило время, и выяснялось, что это пустяк, не стоивший волнений.
— О чем вы не любите говорить с журналистами?
— Вот пришла ко мне журналистка, вопрос за вопросом, и на тебе — вопрос на тему гениталий. Я говорю: “Милая дама, я понимаю, что это представляет интерес для публики, но тем не менее всегда считал, что это — тема для двоих”.
Был такой человек — Мариенгоф. Друг Есенина, писатель, которого никто не знает, кроме двух его вещей — “Роман без вранья” и “Циники”. Строго в художественном смысле это произведения не авторские, это форма мемуаристики, где выдуманное мешается с реальным. Есенин просил его: “Толя, если я помру, не пиши обо мне ничего”. Он сделал все ровно наоборот. И теперь мы знаем, кто такой Мариенгоф. А кто такой Мариенгоф сам по себе? Собутыльник Есенина, которых у него были миллионы.
— Но тот же Есенин ему посвящал стихи...
— Ну, это уже дело Есенина. Мало ли я за жизнь кому что посвящаю, это же не дело потомков — судить.
— Тогда о ваших потомках. Денис (сын Шацкой и Золотухина, которого воспитал Филатов. — С.Х.) после третьего курса ВГИКа ушел в священники. И до сих пор он на этой стезе?
— Да.
— От первого брака у вас детей не было, а у Дениса уже четверо...
— Да, Оля, Таня, Маша и Алеша. Еще до Нового года должен пятый появиться.
(В соседней комнате звонит будильник. — С.Х.)
— Будильник возвещает время моего ухода? Кстати, вы большую часть дня за столом проводите или в койке? Я к тому, что многие пишут лежа...
— По-разному. Пушкин писал лежа, у него доска такая была. Я по-другому устроен. Если раньше я садился за стол и выдумывал, то с годами... я нахаживаю, надумываю, и когда все — сажусь и записываю, как сложилось в башке. И когда в письме читаешь, уже видно — здесь слишком жидко. Тезис, может, хороший, а подготовка к нему жидковата. И стараешься сделать поострее, поэнергичней. Понять-то можно только по тому, что буквами написано, словами. Я пишу почти печатными буквами.
— Компьютером не пользуетесь? Он у вас есть?
— Есть, но не пользуюсь, не умею даже. Это меня убивает. Когда я не мог держать ручку, я диктовал жене. А потом пошло потихоньку, учился заново писать.
— Вас куда-нибудь зовут сниматься, читать?
— Звонят, но приходится извиняться, отказываться. Объяснять, что болеешь, вроде как неприлично — все мы болеем, кое-кто даже умирает. Противно долго объяснять, что я того не могу, этого не могу.
— А в передаче “Чтобы помнили”, которую вы создали, вам осталась только роль ведущего?
— Я уже вроде брэнда, мне деться некуда. Там большой список ушедших артистов. И потом, у нас все изменилось. Если раньше это было целое кино телевизионное, то сегодня урезали до 30 минут. А за полчаса показать судьбу невозможно. Передача стала более информативная, менее эмоциональная. Раньше был час, а первая передача про Инну Гулая шла полтора часа. Меня тогда вызвали в “Останкино” и “поправили”.
— А пишете, как раньше говорили, в стол?
— Зачем, у меня книжки выходят аккуратно, каждые полгода, у меня уже около 25 книг. Сейчас готовится еще одна, в ней четыре пьесы, две маленькие и две большие. Названия сказать не могу, потому что, как назвать — решает издатель, такая у нас договоренность.
— Пик, наверное, пришелся на “Федота-стрельца...”?
— Ну, в общем, да. Хотя это для меня загадка. Я относился к нему как к баловству.
— Как ни странно, то, чему мы не придаем значения, многими воспринимается совсем иначе. К примеру, та же история с “Экипажем”, когда вы еще совершенно незнакомы были широкой публике.
— Причем мне казалось, что там и играть-то нечего. Чего там, изображать какого-то паренька. Хотя я уже не был пареньком, мне шел четвертый десяток. Это успех Саши Митты.
— Он сделал фильм по западному принципу.
— С той разницей, что он его сделал за три рубля, когда там миллионы. До Саши никто не знал, что у нас могут так работать. Чтоб все двигалось в таком ритме и при этом проволоки не было видно в кадре. Макет аэропорта был сделан, потому что на переднем плане в расщелину падает машина. Перспектива с аэропортом дает ощущение настоящего впереди. Если убрать, то будто игрушечные машинки падают, все пропадает. Несколько самолетов сожгли. Хотя они были списаны, но прилетели из Киева своим ходом.
— А сейчас у нас списанные самолеты летают до тех пор, пока сами не упадут. Грустное время...
— Все изменится. До дна мы еще не упали. Только упав до дна, можно подняться. По закону синусоиды.