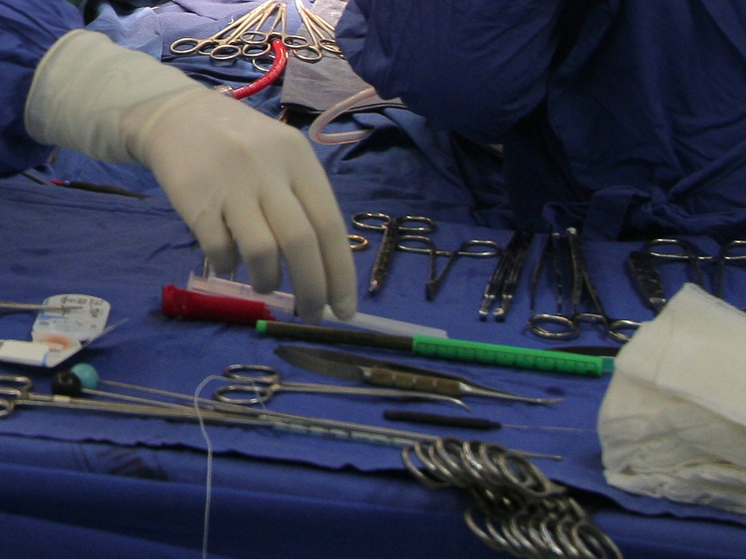Сегодня в “МК” — бенефис нашего собкора в США Мэлора СТУРУА. Он родился в эпоху, когда детям давали революционные имена. Мэлор — это Маркс Энгельс Ленин Октябрьская Революция. Имя получилось на редкость красивым и звучным. А сам Мэлор Георгиевич относится к нему с юмором — как и к жизни, и к творчеству. Перо его не знает устали и возраста. Да и что такое возраст? Это бесценный кладезь для человека, избравшего своей профессией журналистику. Сейчас Мэлор Стуруа живет в Миннеаполисе, ежедневно пишет по нескольку статей и по числу публикаций мог бы, наверное, претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса.
Коллектив “МК” поздравляет нашего коллегу, прекрасного и на редкость талантливого человека с юбилеем. А о таланте и бурной творческой жизни юбиляра пусть судит читатель: сегодня мы публикуем житейские байки от Стуруа.
“Мне и рубля не накопили строчки...” — писал Владимир Маяковский. Он, конечно, прибеднялся. Мне строчки кое-что накопили. Еще бы: стукнуло 75 лет, то есть три четверти века, из которых 53 года скребу на всю катушку! Но самое дорогое из того, что я накопил, это коллекция людей, с которыми меня сталкивала моя вторая древнейшая профессия. Оглядываюсь: да это же целый музей восковых фигур мадам Тюссо, оживающих по велению или прихоти моей памяти! Я перебираю их, как четки, иногда задерживая в пальцах ту или иную бусину. Одни отлиты из слез, другие из смеха, но большинство — из смеха сквозь слезы. Какое время, такие и четки.
Впервые я встретился с Молотовым, которого мы, молодые журналисты, называли между собой Вячиком, в 1954 году. Меня вызвали на Смоленскую площадь для написания статьи, и сам Молотов должен был дать мне “указивку”.
Молотов принял меня корректно, но сухо. Я уселся в глубокое кресло у письменного стола Вячика и стал ждать. Ждал и Молотов. Прошло несколько тягостных мгновений молчания. Наконец Молотов сказал:
— Примите рабочий вид!
Я повертелся в кресле и снова стал ждать.
— Я же сказал вам: примите рабочий вид! — повторил Молотов уже недовольным тоном.
Я поменял позу и постарался придать своему лицу выражение максимального внимания.
— Возьмите карандаш и бумагу и записывайте, — не выдержал Вячик.
— Вячеслав Михайлович, в этом нет никакой необходимости. Я все запомню наизусть.
Молотов удивленно посмотрел на меня, с секунду поколебался, а затем начал диктовать свои ЦУ — ценные указания...
С тех пор мы встречались неоднократно. А когда Молотов, став членом “антипартийной группировки”, был отстранен от руководства, мы даже подружились.
В последний раз я встретил Молотова незадолго до его смерти. Мы оба были пациентами Кремлевской больницы в Кунцеве. Он шел по больничному коридору в пижаме и халате с толстой книжкой в руках. Мы поздоровались и разговорились.
— Больничное начальство хочет изолировать меня от остальных. Но я ведь старый подпольщик! — здесь Молотов почти по-детски засмеялся. — Я говорю сестре: “Сестра, откройте окно и проветрите воздух в моей палате”. Она вынуждена открыть окно, а меня — на время выпустить в коридор. И тут больные налетают на меня как мухи на мед...
Я спросил Молотова, что за книгу он читает.
— Второй том “Истории Великой Отечественной войны”. Сплошная фальсификация. Наиболее вопиющие места я подчеркнул красным карандашом.
Молотов передал мне увесистый том. Я перелистал его. Почти все страницы книги были красными, как Государственный флаг Советского Союза...
В кулуарах штаб-квартиры ООН на нью-йоркском Ист-Ривер говорили: “Самый красивый министр иностранных дел — француз Кув де Мюрвиль. Самый лучший оратор — советский министр Андрей Вышинский”. Прокурорская практика сильно пригодилась Андрею Януарьевичу. Если он раньше клеймил “цепных псов” мирового империализма, то в своей новой дипломатической инкарнации разоблачал уже их хозяев. Все эти “разоблачения” было предписано публиковать “Известиям”. Вышинский разоблачал мировой империализм без устали, и мы вынуждены были печатать его речи целыми полосами. Печатали, печатали и задолжали. Накопилось несколько полос неопубликованных выступлений Януарьевича. Там, на самом верху, решили спрессовать должок в одну газетную страницу и опубликовать несколько речей “лучшего оратора” в сокращенном виде.
Когда это решение “спустили” в газету, сокращение речей Вышинского главный редактор Константин Губин поручил мне, хотя я был в “Известиях” без году неделя. Я был очень горд столь ответственным поручением, не понимая по своей наивности, что опытные газетные дяди, прошедшие сквозь горнило “Большого террора”, цинично бросили меня на растерзание. Кому была охота сокращать Вышинского, который сам мог сократить любого до размеров “врага народа”? Напомню читателю, что Сталин был еще жив и как раз готовил и новые чистки, а “убийцы в белых халатах” уже сидели на Лубянке.
Сделав из пяти или шести полос одну, я понес ее главному на визу. Главный отшатнулся от нее, как от гадюки, визу, конечно, не поставил и сказал:
— Вы сокращали, вы и везите ее на согласование к Вышинскому.
Делать было нечего. Полосу прокатили на “хорбуме”, то есть хорошей бумаге, позвонили в секретариат Вышинского, и где-то в три часа ночи он согласился принять меня. (Газеты тогда выходили под утро, подстраивая свой график под режим дня вождя, страдавшего бессонницей.)
Вышинский принял меня очень вежливо, видимо, не учуяв во мне “врага народа”. Он пододвинул ко мне вазочку с конфетами “Мишка косолапый” и печеньем, а секретарша внесла чай с лимоном. Пока я гонял чаи с “Мишкой”, Вышинский вычитывал сокращенный вариант своего ораторского искусства. Но не прошло и нескольких минут, как на его письменном столе зазвонил один из многочисленных телефонов. Вышинский снял трубку и тут же вскочил как ужаленный.
— Сталин! Немедленно покиньте кабинет!
Я пулей вылетел из кабинета Вышинского.
Через некоторое время меня снова позвали к нему. Вышинский был уже в форменной мидовской шинели.
— Я еду в Кремль, — сказал он.
— А как же ваши выступления? — робко спросил я.
— Логические связки есть? — вопросом на вопрос ответил Вышинский.
— Есть.
— Ну тогда я подпишу.
Вышинский завизировал текст и выскочил из кабинета. Взяв завизированную полосу на “хорбуме” и несколько “Мишек” в придачу, я поехал в редакцию.
— Ну что, завизировал? — спросил меня главный, как только я вошел в его кабинет.
— Да, завизировал.
— А что сказал?
— Спросил, если ли логические связки?
— Он что, не читал твои сокращения?
Я рассказал главному о звонке Сталина.
Главный сильно разволновался. На “хорбуме” стояла роспись Вышинского. Материал шел в номер, но прочитан им не был. А что если завтра, прочтя на свежую голову уже в газете образцы своего ораторского искусства, Вышинский вдруг обнаружит, что в них нет никаких логических связок?
Главный потел и пыхтел.
— А вы уверены, что логические связки есть?
— Уверен, Константин Александрович. — Молодой, наивный, неопытный, я не понимал, какие муки испытывал сидевший передо мной крупный партбюрократ, человек гигантского роста, вдруг скукожившийся до размеров карлика.
— Тогда несите полосу вниз, в типографию. И смотрите. Будете отвечать головой. — Губин протянул мне “хорбум”, не завизировав его.
Я был уже в дверях, когда он окликнул меня:
— Значит, логические связки есть?!
Бедный главный. Он отлично понимал, что если их нет, отвечать за это буду не столько я, “стрелочник”, сколько он. Сам я понял это много позже.
Я с детства дружил с единственным сыном Берия] Серго, или Сергушей, как все его называли. Дачи Берия и моего отца стояли по соседству в пригороде Тбилиси Крцаниси. Когда Берия перевели в Москву на смену “не оправдавшего доверия вождя” Ежова, мы с Сергушей на некоторое время потеряли связь. Но она была быстро восстановлена после того, как я приехал в Златоглавую учиться.
Сергуша часто приглашал меня на подмосковную дачу своего отца. Как правило, это происходило по воскресеньям. Тогда теннис еще не был в моде у вождей. Играли они в основном в волейбол. Мы делились на две команды: одна — студенческая, Сергуша и его друзья. Вторая команда состояла из Берия и его охраны. Баталии были нешуточными. Наши соперники, исключая Лаврентия Павловича, были хорошо натренированными спортсменами, членами чекистского общества “Динамо”.
Однажды в пылу сражения, гася нависший над сеткой мяч, я угодил в очки Берия. (Во время игры он, естественно, пенсне не носил.) Очки разлетелись, стекла разбились, к счастью, не поцарапав лицо Берия. (Как смешно звучат эти слова “к счастью” в перспективе времени!) Я почувствовал себя очень неловко, обошел сетку и стал извиняться.
— Да брось, Мэлор, в игре и не такое случается! — утешил меня Берия. Ему принесли новые очки, и игра возобновилась.
Никаких чувств, а тем более чувства страха, я не испытал. Была одна лишь неловкость — засветил мячом в лицо взрослого дяди, да еще отца моего друга!
Страх пришел много позже — семь лет спустя! На открытом партийном собрании в “Известиях” зачитывалось письмо ЦК КПСС о злодеяниях “агента мирового империализма” Лаврентия Берия. Слушая его, да еще в исполнении нашего доморощенного Левитана Бори Васильева, я вдруг почувствовал неосознанный страх. Затем страх этот материализовался в моем сознании именно рассказанным мною выше эпизодом. Правда, в моей воспаленной фантазии он раскручивался совсем по-иному: я ударяю мячом в лицо Берия; очки вдребезги; пытаюсь перейти на его сторону площадки, чтобы извиниться, и вдруг падаю замертво под пулями его охранников.
Страх сидел в нас очень глубоко. Настолько глубоко, что кое-кто принимал его за веру.
Обладатель знаменитых “ежовых рукавиц” был слаб телом и здоровьем. Страдал легкими. Поэтому он каждый год отдыхал на высокогорном грузинском курорте Абастушани, знаменитом своим целебным воздухом, не уступающим Швейцарским Альпам, и обсерваторией, кузницей советской астрономии.
Отдыхал Ежов в небольшом санатории Лечкомиссии, еще скромной предшественницы Кремлевки. Ему обычно отводили просторную комнату на втором этаже с открытой верандой. В те годы роскошные палаты не полагались даже высшему эшелону власти, ибо, как учил нас дорогой товарищ Сталин, “скромность украшает большевика”. И Ежов был украшен ею сполна, включая длинные сатиновые трусы и тапочки.
В 1935 году у меня стали пошаливать железы, и мать повезла меня, семилетнего, в Абастушани в тот же самый санаторий Лечкомиссии — гадкий утенок, из которого впоследствии вырос прекрасный лебедь, Кремлевка, поскольку большевикам надоело украшать себя одной скромностью. Наша по-спартански обставленная комната — две железные кровати, стол и четыре стула — находилась на первом этаже, как раз под комнатой Ежова.
Мы, детвора, души не чаяли в нем, хотя он с нами, да и со взрослыми отдыхающими почти совсем не общался. Затаив дыхание, мы ждали того заветного мгновения, когда Ежов выходил на веранду с ружьем в руках и начинал стрелять по птицам, сидевшим на деревьях, окружавших домишко санатория. Это, конечно, не было охотой. Кто охотится с веранды, да еще на такую птицу, как галки, вороны, грачи, воробьи?! Скорее всего Ежов стрелял в цель, пользуясь этими птицами как мишенями. Стрелял он из мелкокалиберной винтовки, так называемой “гэко”.
Сам процесс стрельбы нас, конечно, интересовал. Но главное было не в этом. После отстрела птиц Ежов просил нас собирать их и выбрасывать в мусорный ящик. За это он раздавал нам стреляные гильзы — мы называли их “пистонами”, — и мы свистели в них, испытывая несказанное блаженство. В те годы не только большевики, но и их дети украшались скромностью. У нас не было ни “Мерседесов”, ни даже велосипедов, лишь у некоторых — самокаты, сработанные собственноручно. “Пистоны” тогда ценились у нас на вес золота, хотя что такое золото и сколько оно весит, мы никакого представления не имели. За “пистоны” можно было многое выторговать у товарища. Они были нашей, так сказать, конвертируемой валютой.
С тех пор минуло много лет. И сейчас, когда речь заходит о страшных 37-м и 38-м годах, в моей памяти всегда всплывает щуплая фигура Ежова в белой майке-безрукавке и синих трусах, из-под которых выглядывают тощие ноги, обутые в тапочки. Он палит из мелкокалиберки по несчастным и несъедобным птицам, а мы, внизу, поспешно подбираем еще теплые, иногда трепыхающиеся комочки, выбрасываем в мусорный ящик и с надеждой ждем заветных “пистонов”, чтобы просвистеть на них задорные, оптимистические марши. Что-то вроде “нам песня строить и жить помогает”...
* Я не склоняю эту фамилию, ибо грамматически это неверно. Склонять ее стали сначала потому, что это звучало унизительно для Берия. А уже потом это стало правилом. — М.С.