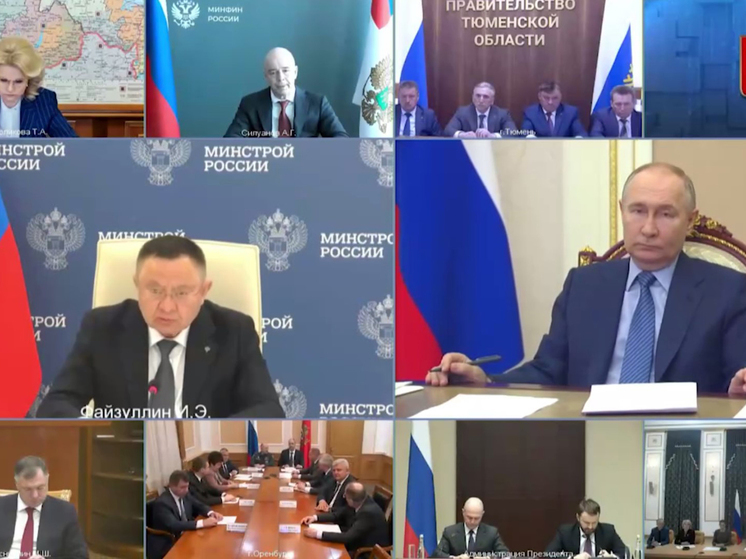Умирающего Сталина нашли на полу. Подробное описание известно. Слова Берии, воспоминания Хрущева...
Позже к этому прибавились домыслы. Обожатели видели генералиссимуса лежащим в полном параде, с строгим ликом, в сиянии славы. Ненавистники — в вонючей луже, в рвоте и в моче, с перекошенной рожей, в домашних штанах (это были черные сатиновые шаровары с резинками внизу).
Сразу скажем: маршальского мундира на умиравшем, конечно, не было; да и с чего? Что касается мочи и рвоты, то этого никак нельзя поставить тов. Сталину в укор. Как и перекошенное лицо; инсульт — такая штука, перекосит и праведника.
Никем не упомянута одна деталь. О ней не узнали даже самые въедливые биографы. Деталь эту не скрывали; просто сочли несущественной, не достойной упоминания.
Эта деталь — раскрытая книжка, валявшаяся возле тела обложкой вверх. Нижний правый угол книжного разворота оказался в вышеупомянутой луже естественного происхождения. Промокли нижние правые углы листов, начиная с нижней трети стр. 22 и далее. Причем чем дальше к концу, тем промокшая часть становилась меньше, и у последних листов чуть заметен след на самом кончике уголка.
Промокшие страницы в тот же вечер были поочередно высушены утюгом, что позволило избежать плесени и гниения, но некоторая покоробленность бумаги, а также явственный след высушенного места сохранились, как и легкий неприятный запах.
Принадлежи эта книга перу Карла Маркса или Фридриха Энгельса (обоих И.В.Сталин читал в русском переводе), или В.И.Ленина (его Сталин не читал с 1924 года, но часто листал в поисках подходящих цитат) или будь это вообще какая-либо серьезная книга — возможно, она и была бы упомянута в описании (в протоколе) как подтверждение тому, что и на пороге смерти вождь продолжал свое великое дело.
Но книга, точнее книжка, была отнюдь не серьезная. Даже не вражеская, а просто пустая. Детская. Ее в 1992 году показал нам Николай Никодимович П., служивший в 1953-м охранником на Ближней даче. Николай Никодимович был уже очень стар, тяжело болен, не вставал, спереди осталось три зуба, и потому сперва категорически отказывался говорить перед видеокамерой.
Вообще вкусы И.В.Сталина были очень просты и в еде, и в питье, и в одежде, и в музыке, и в кино, и в науке, и в литературе. “Киндзмараули”; и никаких виски, никаких ликеров. “Герцеговина флор”; и никаких кубинских сигар, никаких голландских табаков. Мягкий френч, мягкие сапоги; и никаких фраков-смокингов, никаких лаковых туфель. “Старуху Изергиль” Максима Горького он ставил выше “Фауста” Гете (так и сказал: “Штучка пасильнее “Фауста” Гете! Любов пабэждает смэрть!”). Что касается музыки, то эстрадный кумир 1930—1950-х Вадим Козин рассказывал автору этих строк (в Магадане в 1984-м и вторично — в 1994-м) о том, как по окончании правительственных концертов Сталин просил его, Козина, остаться и петь в отдельной комнате, где ужинал ближний круг. По словам Козина, Иосиф Виссарионович постоянно заказывал две частушки:
На реку белье стирать
С милою ходили.
Я хотел поцеловать,
А штаны уплыли!
Хопа-хопа-хопа!
Ритатуха ходил к Нюхе.
Нюха жила в пологу.
Нюха девочку родила —
Боле к Нюхе не пойду!
Хопа-хопа-хопа!
Владыка мира, повелитель всего, корифей всех искусств и наук, начальник жизни гениев — Шостаковича, Прокофьева... И — хопа-хопа-хопа.
Вообразите: ледяная январская магаданская ночь, беззубый Козин (после лагеря зубов у него осталось мало), согнав с пианино кота по имени Бульдозер, поет заезжему журналисту любимые частушки величайшего людоеда всех времен и народов — ...
Пушкин
Следует сразу и со всей решимостью пресечь как злонамеренные, так и наивные попытки проводить аналогии, ассоциации, аллюзии с сегодняшним днем, с современной эпохой нашей русской политики. Никакой связи! Но, увы, приходится об этом говорить.
Так, одна бедная воспитательница детсада №1234 (Кунцевская управа Центрального округа г. Москвы) сказала сразу трем мамам, одевавшим детей для ухода домой: “Не читайте им “Тараканищу”, особенно если они крутятся возле телевизора, когда вы смотрите новости. Вдруг у них в голове что-то перещелкнется, в смысле замкнет”.
Это предупреждение следует расценить как наводящее, наталкивающее на вредные мысли. А главное, из этого случая совершенно ясно, что у той воспитательницы такие мысли уже есть. И неизвестно, предупреждает ли она мамаш искренне, чтобы предотвратить, или лицемерно — чтобы натолкнуть и тем посеять сомнения, скепсис, цинизм.
Такие разговоры опасны, ибо почти вся русская классика может быть истолкована злоумышленно.
В этом смысле тяжелейшая судьба сложилась у гениального произведения Пушкина “Борис Годунов”. Написав “Комедию о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве”, то есть, написав в 1825 году о событиях двухсотлетней давности (Борис Годунов умер в 1605-м), Пушкин сознавал, что его “комедия” может быть истолкована как намек на еще очень горячее событие 1801 года, когда Павел I был убит и на престол возведен почти отцеубийца Александр I, сказавший первым делом крайне важную для ближнего круга фразу, означавшую поворот назад: “При мне все будет, как при бабушке!”
Пушкин предвидел неизбежные проблемы с цензурой. В письме Вяземскому сразу по окончании пьесы он пишет: “Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию. Навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!”
Пьеса не была разрешена ни к публикации, ни к постановке. Император (уже Николай I) сделал на рукописи издевательскую надпись-совет: “...с нужным очищением переделать в исторический роман наподобие Вальтер Скотта”. Все равно что предложить Лужкову подмести Тверскую. Пушкин был в бешенстве, сломал диван.
Императорский запрет понятен. Хотя после смуты прошло уже двести двадцать лет, но пьеса прямо касалась Дома Романовых, содержала фамилии действующих политиков и пр. и пр. Да и другая смута — и стрельба, и казни — в столице были только что. Восстание декабристов, стрельба на Дворцовой, пятеро повешенных...
Трагедия о Борисе, написанная в 1825-м, могла, даже против воли автора, содержать намеки на убийство Павла I, поскольку оно уже было.
Но намеков на восстание и казнь декабристов в трагедии не было и быть не могло, просто потому, что она была окончена за месяц до.
Однако доказывать властям такие тонкости бесполезно. И невозможно. Всякий, кто решается объяснять царю, что тот не прав, — или дурак, или самоубийца.
В 1982 году все повторилось.
Спектакль “Борис Годунов” в Театре на Таганке был запрещен. Категорически. Несмотря на все уловки режиссуры, несмотря на громкую защиту со стороны некоторых представителей диссидентствующей интеллигенции.
К власти в 1982-м после смерти Брежнева пришел Андропов, шеф КГБ; а это организация, хотя и меняла названия (ЧК, НКВД, МГБ, КГБ и др.), но и по сути, а главное — в сознании диссидентствующей интеллигенции, была палаческой. Не столько вчерашней, ежовско-бериевской, сколько исторической, малюто-скуратовской, пыточной.
Естественно, чекисту Андропову, только-только ставшему генсеком, было невмоготу читать (или слышать со сцены):
Какая честь для нас, для всей Руси!
Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе палач,
Возьмет венец и бармы Мономаха...
...Понимая нетерпение читателей — узнать наконец обещанную разгадку смерти Сталина, — все же скажем еще несколько слов о печальной и досадной привычке грамотных русских видеть в старых классических строчках описание новейших событий. Привычка возникла потому, что современные писатели не смели критиковать власть и органы, а классики (Пушкин ли, Достоевский ли...) писали не о КГБ и до КГБ — потому слова их были куда смелее, чем у робких современников, знающих, что за вольное слово можно поплатиться отнюдь не ссылкой в Михайловское, в родовое имение.
Оттепели и холода сменяются в нашей стране с убийственным постоянством. Мы, как огромный, не жалеющий статистов театр, разыгрываем бесконечную классическую трагедию. Столетия проходят, а реплики повторяются дословно, сцены — до мелочей.
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Пушкин
Арест Ходорковского — невероятно богатого, невероятно успешного, со всеми президентами (нашими и ненашими) лично знакомого и потому, казалось, неуязвимого — заставил содрогнуться очень многих невероятно богатых, невероятно успешных. Те из них, что хорошо учились в школе, бормотали в тот день, уставясь бессмысленными глазами в пространство, слова боярина:
Что пользы в том, что явных казней нет?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.
Знатнейшие меж нам роды — где?
Заточены, замучены в изгнанье.
В день ареста Ходорковского выпал снег. А сам арест миллиардера, последовавшее падение биржи, отставка Волошина и весь шухер по этому поводу в стране и мире — заслонили и войну, и выборы, и годовщину гибели заложников Дубровки. Это совпадение шухера с первым снегом вызвало в памяти некоторых известные строки:
Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг покрывает очень белой,
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке!
Нам, простофилям, невдомек,
Что это — старые уловки,
Что снег на боковую лег.
Что спишут первые метели
Не только упраздненный лист,
Но все, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись!..
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.
Писал это, конечно, не простофиля.
А что это за восторженные апрельские клятвы? Митинги 1991 года? — когда стотысячные толпы скандировали: “Ель-цин! Ель-цин!” Или апрель 1985 года? — когда народились столь радужные надежды, что особо прогрессивные писатели даже назвали свой союз “Апрелем”.
Нет, Илья Эренбург (официальный “личный враг Гитлера”) писал эти стихи об апреле 1956-го, об Оттепели. А написал он их в 1963-м, когда Оттепель кончилась и наступили холода. Как оказалось — на 20 с лишним лет.
Земли увечья, рвань и гной... Взорванные дома ушли под снег, Дубровка ушла под снег, “Курск” ушел, ушли тысячи погибших в Чечне (погибших не за Родину, а за войну)... То у нас перепись, то референдум, то выборы в Чечне, то выборы в Питере, то в Думу, то ловят Березовского, то сажают Ходорковского, то “Челси” купили, то “Локомотив” надрал жопу макаронникам — у нас каждый день обновка. “Чтоб хорошо сучилась нить, поспешной сменой декораций глаза от мыслей отучить”.
Совет детсадовской воспитательницы понятен. Не читайте детям Чуковского. Вдруг они неправильно поймут “Тараканищу”. Вдруг у ребенка в невинной головенке переклинит и замкнет новости ТВ и строчку из стишков:
Вот и стал таракан победителем!
Поклонилися звери усатому!
Известный журналист (обозреватель “МК”, чрезвычайно близкий автору этих строк) все 1990-е годы предварял чуть не каждую свою заметку о власти цитатой из “Бориса Годунова”.
Страсть к эпиграфам “из Пушкина” очень понятна. Соблазн содержался уже в простом совпадении имен: впервые после Бориса Годунова царская власть опять оказалась в руках Бориса. И — опять! — избранного на высшую власть, а не унаследовавшего ее.
Когда в 1991-м русский народ, собираясь стотысячными толпами на еще не уничтоженную Манежную площадь, в точности как 20 февраля 1598 года требовал Бориса на царство — трудно было удержаться от цитат.
ВОРОТЫНСКИЙ
Как думаешь, чем кончится тревога?
ШУЙСКИЙ
Чем кончится? Узнать немудрено:
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему.
Когда Пушкин пишет о Борисе “что пьяница пред чаркою вина”, то невозможно упрекнуть его, Пушкина, в недостойных намеках на демократически избранного президента. А вот поди ж ты.
Все десять лет правления Бориса II (который по ошибке называл себя “Борисом Первым”) всё шло по классическим канонам. До ужаса не содержало ничего нового. И потому все эти десять лет пресса могла бы обойтись цитированием Пушкина и Шекспира, вместо того чтобы сочинять свои более или менее храбрые комментарии.
Когда сейчас олигархи и симпатизирующие им политики обсуждали, как бы им обратиться к президенту и разъяснить ему пагубность некоторых силовых мероприятий, а другие, более проницательные и осторожные, утверждали, что это бесполезно, — они даже не сознавали, что разыгрывают все ту же старую комедию.
ШУЙСКИЙ
Пускай царя б уверил я во всем,
Другой тотчас его бы разуверил,
А там меня ж сослали б в заточенье,
Да в добрый час, как дядю моего,
В глухой тюрьме тихонько б задавили.
Я сам не трус, но также не глупец
И в петлю лезть не соглашуся даром.
Действительно, возле царя (как бы его ни звали) всегда найдется тот, чьими глазами царь смотрит, чьими ушами слышит. Избегая лишний раз говорить о сегодняшнем дне, скажем о вчерашнем: мало ли кто ходил к Ельцину, объяснял на пальцах, выходил уверенный в успехе, но не успевал проехать Боровицкие ворота, как к Ельцину заходил кто-то другой, и все случалось с точностью до наоборот.
Стоит сказать и о том, кто жалуется: “Уверены ль мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает...”
Кто эти, откровенно боящиеся заточенья и странной смерти в глухой тюрьме? Небось не Басаев, не бомж, не проститутка.
Это страх ближних бояр, самых могущественных, самых богатых и знатных. Только в час беды они вдруг вспоминают о народе:
ШУЙСКИЙ (Воротынскому)
Давай народ искусно волновать.
То есть с помощью народа решать свои боярские проблемы, свои буржуйские проблемы, свои кремлевские проблемы...
А народ... Оборванные, голодные солдаты откровенно радовались, узнав об аресте и расстреле врагов народа — маршалов: Блюхера, Тухачевского... Они, солдаты, гнили в окопах, кормили вшей, а Тухачевский разъезжал в салон-вагоне, с поварами, молодыми бабами, тонкими винами, спереди и сзади бронепоезд, — как же было не радоваться?
Потом, в 1941—1945-м, погибая сотнями тысяч, миллионами попадая в плен, они, солдаты, не видели никакой связи между своей смертью и арестом маршалов, хотя разделяли эти события всего каких-нибудь пять лет.
Бесноватый фюрер и — гениальный стратег, генералиссимус. Нет сомнений, что Сталин бесконечно умнее и лучше Гитлера. Единственное, что нарушает эту приятную картину, — бесноватый шел от Берлина до Москвы три с половиной месяца, а гениальный стратег от Москвы до Берлина — три с половиной года. Немцев погибло девять миллионов, а нас, советских, — тридцать.
Единственное объяснение таким несоразмерным потерям — уничтожение командного состава. То самое уничтожение врагов народа, которое так приветствовалось голодными, разутыми простофилями.
Дымом дымится под тобою дорога;
Чудным звоном заливается колокольчик...
Гоголь
Сталин уничтожил Мандельштама за
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.
Сами эти строки не вызвали гнева. Наоборот, Сталину было приятно еще раз узнать, что подданные живут, ног под собою не чуя. Хорошо; значит, боятся. Нет, ярость вызвали строки:
Его толстые пальцы, как черви, жирны...
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
Таракан, сапог, жирные (немытые) руки... Это уязвимые места. Он помнил их постоянно: малый рост, лицо, траченное оспой, сухорукость, неистребимый акцент, скучная, тупая речь (Троцкому не мог простить красноречия). Но усы, он ими гордился, они были совсем не тараканьи. У таракана тонкие, длинные, отвратительные, а у него — красивые, пышные, добрые.
Слава богу, эти стихи из всего населения СССР, из всего населения планеты знало меньше десятка. Сам Сталин, два следователя... А автор и те двое-трое, кому он успел прочесть, уже были не в счет.
И все было позади. Всех победил. Всех закопал: Троцкого, Гитлера, всю эту шваль, которая после революции вырвалась наверх и называла себя “ленинской гвардией”. Всех этих Мандельштамов, Бабелей, Мейерхольдов...
3 марта 1953 года он лежал на кушетке и листал детскую книжку, которую его приближенная медсестра купила для племянницы, а он увидел и из любопытства взял посмотреть.
Начало было такое глупое, что он довольно рассмеялся. “Ехали медведи на велосипеде”. Ему понравилось. И вдруг из подворотни страшный великан —
Рыжый и усатый таракан!
...Вот и стал таракан победителем!
И лесов и полей повелителем!
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
“Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!”
Это было еще не так плохо. Все-таки победитель, хоть и таракан. Хоть и таракан, а
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут.
Он знал этих козлов, насквозь их видел. И вдруг — страшный удар:
“Разве это великан? Ха-ха-ха.
Это ж просто таракан! Ха-ха-ха.
Таракан, таракан, таракашечка —
Жидконогая козявочка-букашечка”.
Клюнул чижик таракана —
Раз! И нету великана!
А на картинке был воробей, из клюва которого торчали усы.
Не великан, как во всех городах на главных площадях — пять метров высотой, десять, двадцать. А просто таракан. А книжка детская — значит, миллионные тиражи! И все читают, и все всё понимают.
Сталин понял, что проморгал! Захрипел, задергался; инсульт.
Он ошибся. Вредительские стишки не имели к нему отношения. Чуковский написал их в 1923-м, совсем не зная, что будет в 1937-м.
Но тогда, в 1923-м, Сталину было не до детских книжек. Этим занималась дура Надюша. А потом — потом никто не решился сказать ему ни слова, ибо это значило бы, что доносчик опознал в вожде таракана.
Сталин принял таракана на свой счет, как принимали на свой счет вредительского “Бориса Годунова” и Николай I, и Андропов. Он ошибся точно, как простодушная детсадовская воспитательница, вдруг увидевшая в “Тараканище” намек на сегодняшний день, хотя слова “Въехали медведи на велосипеде” не содержат насмешки над появлением в Думе партии “Единство”.
Он был убит жестокой насмешкой, презрением. Тем самым словом, которым он владел плохо, но умел ценить настолько, что убивал всех, кто владел им лучше, опуская тем самым язык и литературу к своему дикому семинарско-бандитскому уровню. (Не забудем, что после изгнания из семинарии он увлеченно грабил поезда и банки.)
Он был убит собственной неуверенностью. Ибо сам-то он про себя всегда знал, что не гений, а лжец, интриган, убийца. Знал, что любить такого невозможно. Вот его и не любили, а он за это мстил. И ставил всенародный, всемирный спектакль о любви к себе.
Россия давно уже не птица-тройка. Но пока еще и не “Мерседес”. Мы — гигантский паровоз. Великолепная огромная могучая машина... Кто говорит, будто мы стоим на месте?! Пылает в топке огонь, бешено вертятся колеса, машинист уверенно смотрит вперед. И для тех, кто внутри, нет никаких сомнений — летим! А что КПД низок — так и хрен с ним.
Но тот, кто стоит снаружи, — видит: грандиозный локомотив увяз в буреломе, в болоте; рельсы либо утонули, либо украдены, и в топке понапрасну сгорает уголь и жизнь миллионов.
От редакции. Поскольку закон запрещает до окончания выборов печататься Александру Минкину (в связи с включением его в предвыборные списки “Яблока”), мы продолжаем публиковать некоторые дискуссионные материалы под его личной рубрикой “Что думать?”.