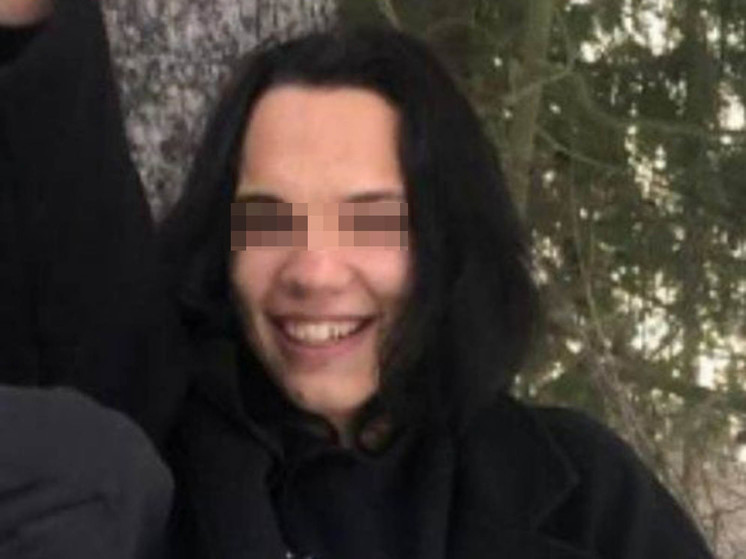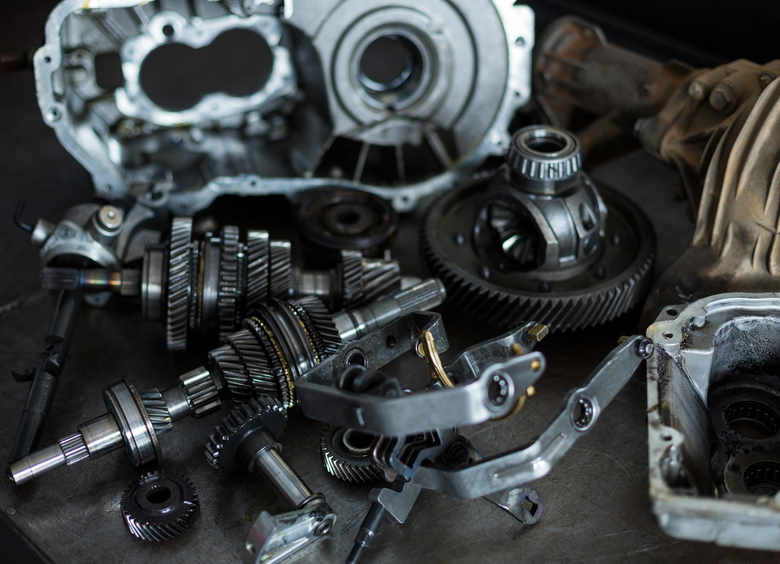Учительница:
— Вовочка, какой, по-твоему, должна быть идеальная школа?
— Запертой, Марь Иванна.
Странно встречать своих школьных учителей: ведь они должны остаться на другой планете, такой яркой, почти осязаемой, но летящей в параллельном мире. Там, где нам всегда семь, двенадцать, десять лет...
Как пахнут астры на дожде, как разносится из динамиков про школьные годы чудесные, как тянет спину ранец с грибком (шляпка красная, ножка белая) — не забудешь. Первого сентября щемит сердце: когда мы уйдем на другую планету, другие дети, как мы когда-то, будут волноваться у школы, и мокрый лепесток астры упадет на асфальт.
Сегодня журналисты “МК” снова стали школьниками. Представьте Минкина и Богуславскую в ранцах с грибком. Не можете?
В школе я научился врать. И — как теперь думаю — больше ничему.
Врать, что уроки сделал. Врать, что отметки хорошие. Если попался — врать, почему не сделал (тетрадь упала в печку, бабушка умерла... Одноклассник мой успевал в первой же четверти схоронить и оплакать всю родню; я берег, некоторые доживали до весны).
Научился отлынивать от работы, изображать работу, изображать успехи (то есть, имея школьный опыт, я сейчас легко бы мог быть министром чего угодно; и не хуже нынешних).
Читать и считать я уже умел; тут за 11 лет ничего не прибавилось. В пятнадцать лет я очень хорошо знал, что такое арксеканс и арккотангенс, но за 40 послешкольных лет эти штуки мне ни разу не пригодились, и я их забыл. Даже за миллион долларов не смогу сказать, что такое арксинус и пр., хотя знаю, что это тригонометрия и как-то связано с углами.
Как всякий послевоенный пацан, я знал хенде-хох, хальт, цурюк, битте-дритте-фрау-мадам и песенку немецких овчарок (советские люди женского пола репродуктивного возраста, которые недостойно себя вели на оккупированных территориях): “Шпацирен, шпацирен, Мит дойчен официрен”. Годы изучения немецкого добавили только Их хабе фон беруф.
...Я не сидел, но думаю, что чувства лагерников мне всегда были понятны именно потому, что я учился в советской школе. (Надеюсь, мои учителя не прочтут, не хочется их обижать, среди них были хорошие, благородные люди.)
Страшные сны про “два по русскому”. Сны страшные не ужасом, а невероятной реальностью. Только вечером, бывало, ахнешь, не найдя тетради с двойкой за сочинение, — так это был сон! А весь день ходил убитый этой парой, всё придумывал, что соврать.
Для полного сходства с тюрьмой школу в начале 60-х стали запирать, чтобы, отметившись на первом уроке, никто потом не сбежал. Мы прыгали со второго этажа на асфальт, немножко страшно (этажи в школах высокие), но ничего, никто ни разу ногу не сломал.
Надежнее было вообще в школу не ходить, чем потом выпрыгивать, потому что неприятности с тобой могли произойти и на первом уроке. Лучше всего с утра сбежать в кино. Надо только вовремя уйти из дому, чтоб не заподозрили.
...Образ Татьяны, Онегин — лишний человек... По литературе всегда “три”. По русскому всегда “три”. Пишу я грамотно, но ответить, когда и почему надо “-оньк-”, а когда “-еньк-”, — не мог. Это не сложно, но очень скучно.
Органическая химия — мимо; ни разу не пригодилась. А что такое этиловый спирт, в какой пропорции его разбавлять, чем закусывать и как отличить его от метилового — этому не в школе учат, а зря, меньше бы людей померло по глупости.
История — гадость; довольно молодая и симпатичная историчка была большой патриоткой. “В этой битве, — учила она, — русские одержали поражение”. У нее русские непрерывно всё одерживали. А потерпеть — это оставалось на долю буржуев; англичане потерпели победу в Крымской войне.
Пестики и тычинки? Я верю, что они есть, но опознать не могу, каждый раз гадаю: кто передо мной — пестик или тычинка?
Все, что я знаю по географии, — заслуга Жюль Верна и Майн Рида. Все, что я знаю о дедуктивном мышлении, — спасибо Шерлоку Холмсу. Все, что я знаю, — я знаю из бесконечных книг, которые читал в кровати, в сортире, в щели на парте, где крышка откидывается; очень удобно, смотришь вроде в тетрадь, училке трудно понять, чем ты там занят. Идешь из школы — читаешь на ходу; переулки тихие.
Книги спасли. И некоторые фильмы. В девятом и десятом я отказался (тихо, но упрямо) вступать в комсомол, в одиннадцатом уже и не предлагали.
— Дурак, тебя же в институт не примут! — говорили все.
Не приняли. 19 августа 1964 года пошел работать. 40 лет трудового стажа, и ни дня, чтобы я с благодарностью вспомнил школу. Сейчас, когда редакция велела написать текст к 1 сентября, вдруг осознал, что ни разу не был на вечерах встречи старых учеников, ни разу не хотел туда пойти.
Я был очень смешливый первые четыре года, за это в угол ставили и даже в коридор выгоняли. В начальной школе учили тому, что я уже знал; и к пятому классу, когда начались “предметы”, я был законченный лодырь. Я совсем не умел работать, жизнь стала очень грустная.
...Грозила двойка по немецкому (9-й класс), а система была “кабинетная” — каждый предмет в своем кабинете. На перемене отломил зубчик у пластмассовой расчески, подошел к кабинету немецкого и незаметно сунул зубчик в английский замок. Немка пришла — дверь не открывается. Пока слесаря искали, пока он замок выковыривал... А следующий урок — математика, ее не боялся, по математике и физике был почти отличник, сижу отдыхаю, душа радуется, математичка что-то объясняет, гуляя по проходам между партами; идет мимо меня — вдруг останавливается, одной рукой вытаскивает из моего нагрудного кармашка расческу, а другой рукой из своего нагрудного кармашка — зубчик. И прикладывает. И они совпадают, как в шпионском кино. Кошмар внезапного провала.
Розетку починить, и велосипедную втулку перебрать, и штопать носки, и картошку чистить — научился дома. А в школе — вышивать болгарским крестиком. Никогда не пригодилось.
Поступление в школу я отметила стригущим лишаем, которым со мной поделилась одна знакомая кошка. Стригущий лишай в те годы лечили бритьем наголо, поэтому на снимке я без волос. А без зубов я потому, что у меня, как объясняла мама, замедленное развитие.
Несмотря на замедленное развитие, в школу меня отправили раньше, чем положено. К тому времени я перечитала дома все детские книжки, и мою тягу к знаниям родители решили передать под контроль профессиональных педагогов.
Первого сентября я пошла в первый класс с огромным воодушевлением, ожидая встретить там блестящий коллектив творческих личностей, живущих богатой внутренней жизнью. У меня наконец появятся друзья, с которыми можно будет обсуждать любимые книги, рисовать иллюстрации, сочинять продолжения…
В тот же день выяснилось, что, кроме меня, в классе никто не умеет читать.
Я было заскучала, однако в процессе неформального общения оказалось, что одноклассники не так просты, как кажется. Они обладали обширными познаниями в области половой жизни, в чем я была абсолютным профаном, и в первые же недели я сильно расширила свои представления о мире.
Потом стригущий лишай месяца на два выбил меня из рядов, и когда я вновь приступила к учебе, уже стояла зима, темень за окном на первых уроках, замызганный мешок со сменной обувью, выдернутый из хаоса раздевалки, моя бритая башка, над которой все смеялись, припадочные учителя, готовые сожрать тебя живьем по малейшему поводу, и сплошная “мама мыла раму”. Наступили трудовые будни, унылая рутина, тянувшаяся десять лет.
Тяга к знаниям стала угасать, уроки я делала через силу, ходить в школу не хотелось совершенно. От вдохновенного детства сохранилось два желания — читать и рисовать, и я удовлетворяла их как могла.
Спустя двадцать с лишним лет я могу сказать, что в жизни мне пригодились кое-какие знания, полученные на уроках математики, физики, географии и английского.
Химия не пригодилась. На химии мы все время разоблачали религию — разоблачали бескомпромиссно при помощи кислорода, водорода, кислот, солей, щелочей и таблицы Менделеева.
Литература преподавалась так, что мне до сих пор не хочется читать ничего из программных книг. Когда я вижу темы сочинений, я отчетливо сознаю: заставь меня сейчас сдавать экзамены, за сочинение я получу два балла, потому что я не знаю, что там НАДО писать.
На “три с минусом” я, вероятно, смогу сдать историю, которую воспринимала в школе как бесконечную очередь из королей, войн, восстаний и дат. Их надо было просто вызубривать. О том, что исторические процессы обусловлены некой внутренней логикой, я догадалась сама, причем сравнительно недавно. Замедленное развитие — права мама.
Но школа меня немножко ускорила. Мне кажется, главное, чему там учат: старательно делать не то, что ты считаешь нужным, а то, что считают нужным делать другие, — даже когда ты видишь, что это полный маразм. Во взрослой жизни такое умение просто необходимо. Если его вовремя не освоить, потом нигде не сможешь работать.
Я освоила, и за это выражаю своей школе огромную признательность.
О школьных годах у меня остались самые лучшие воспоминания. Было много чудесных открытий и веселых приключений. Но если сейчас меня снова отправить на десять лет в школу, я этого просто не перенесу.
Может, потому, что школу я заканчивал еще в прошлом тысячелетии, те годы вспоминаю редко. Ведь это было так давно, что я до сих пор помню Никиту Сергеевича Хрущева, черный кукурузный хлеб в магазинах и полет Гагарина в открытый космос.
...Учился я хорошо, наверное, сызмальства долг обязывал. В шахтерском поселке на окраине Донецка мой отец был самым заслуженным фронтовиком, воевал в легендарной 13-й гвардейской дивизии Родимцева и имел 9 ранений. С таким уважаемым родителем по определению нельзя было быть плохим мальчиком. И я, как мог, оправдывал доверие.
Особенно любил точные предметы, математику — царицу наук. Много читал про выдающихся ученых: Даламбера, Декарта, Паскаля, Ньютона. В далекие Средние века они открывали то, что мы, параграф за параграфом, проходили в школе: логарифмы, модули, тригонометрические уравнения. Было в этом какое-то колдовство, магия чисел.
Но, конечно, не наукой единой... Была в классе девчонка симпатичная, но училась без всякого интереса. А я, гаденыш, любил ей неправильно подсказывать. Например, на уроке истории учительница ее спрашивает: “По какой дороге отступал из России Наполеон?” Я шепчу: “По Военно-Грузинской!”
— Я тебе дам по Военно-Грузинской, — кричит учительница. — Обоим “двойки” ставлю!
А вообще, засадить нашу публику за книжки было делом неблагодарным. И тогда Магомет в лице нашей первой учительницы Анастасии Алексеевны шел к горе. В младших классах мы учились во вторую смену, и два раза в неделю после уроков она читала нам “Робинзона Крузо”, “Остров сокровищ”, “Копи царя Соломона” — и все, что было в школьной библиотеке из приключенческой литературы. “Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя”, а мы, прижавшись друг к дружке, слушали про пиратов капитана Флинта или про Робинзона, который вдруг понял, что его необитаемый остров кишит каннибалами.
Такие коллективные чтения затягивались допоздна, и за нами приходили родители.
В старших классах у нас в школе появилась новенькая лаборантка — настоящая картинка с удачной компоновкой атомов по части женских пропорций. На переменках мы подговаривали первоклассников подбежать и шлепнуть ее по заднице, когда она шла (нет — плыла!) по коридору. Тоже было очень весело.
Так мы скрашивали большие и маленькие перемены. Особенный энтузиазм у всех школяров прошлого века вызывали сочинения на тему “Какой я вижу свою Родину через 20 (или 30) лет”. Тогда уже было решено, что лет эдак через 20—30 все мы пересядем на звездолеты, полеты на Луну или Марс станут такими же будничными, как поездка в метро. Все мы хотели поскорее повзрослеть, чтобы успеть поработать на шахтах и стать настоящими мужчинами.
Никто не предполагал, что мое поколение до конца дней своих будет вкалывать на тех самых донецких шахтах и бастовать при задержке мизерной зарплаты.
Ну а я... Тяга к Царице (наук) не прошла бесследно. После школы я уехал в Москву и поступил в МВТУ имени Баумана. Что внутри меня щелкнуло — сам не знаю. Но на втором курсе стрельнуло мне в голову написать заметку — и пошло-поехало. Так я пришел в “МК”. Мои институтские товарищи заверяют, что наука от этого не потеряла, а журналистика — не приобрела.
Но это, конечно, они из вредности!
В школе я училась очень хорошо. Почти что отличница. Но почему-то меня все время хотели выгнать из школы. Даже когда кто-то устраивал в классе гадость, учителя думали именно на меня и мою закадычную подружку Ольгу Кириенко, известную в народе как Лелик.
Однажды мы с Леликом заминировали кабинет начальной военной подготовки. Каким-то образом выманили ключ у нянечки от кладовки, стырили оттуда противотанковые мины и гранаты, то есть их муляжи, и обложили рабочее место нашего военрука — красавца лейтенанта Перлова. Не потому, что умирали от его отпадной красоты, а больше мстили ему за поруганную им любовь другой нашей одноклассницы. В результате минерских работ место лейтенанта выглядело примерно так — к столу тянулись минные круги с проводами, а на стуле стояла швабра с противогазом.
Увидев сие, лейтенант повел себя вовсе не как господин офицер, а как низший чин бдительной организации. Нашего одноклассника Димку Штермана — теперь гражданина Израиля — допросил с пристрастием, запугал директором, и тот нас сдал. Военрук требовал жестокой расправы — “неуда” по поведению за год. Но как-то все тихо нам сошло с рук. А вот учительница истории, та практически дошла до моего отчисления из школы.
Эта историчка отличалась тем, что требовала буквального изложения событий по учебнику. На уроках было ужасно скучно, и я начала писать стихотворную пародию на историчку. Так увлеклась, что не заметила, как она подошла к парте и — хвать листок с недописанным текстом!
На ее лице было торжество — она была уверена, что это любовное письмо, и эта последняя капля доведет меня до желаемого ею “неуда”. На глазах у изумленного класса она начала читать. Гробовая тишина. Учительница пошла пятнами и с криками: “Вон из школы!” — помчалась к директору...
Если бы меня с подружкой Ольгой все-таки выгнали, бурную жизнь художественной самодеятельности школы парализовало бы. Тем более что на носу был выпускной вечер, и мы придумали ни много ни мало — поставить “Клопа” Маяковского. Если учесть, что никто из нас в жизни никогда ничего не ставил, а актерский опыт сводился к чтению литмонтажей про Родину, то это была чистая авантюра. Но... Такова великая сила искусства, что, попав один лишь раз в Театр сатиры на постановку “Клопа” Валентина Плучека, мы втрескались в этот спектакль по уши. И заболели театром на всю жизнь. Короче, расписали роли, что-то выучили, порепетировали, кто за кем выходит и что говорит.
Но что такое “искусство требует жертв”, я узнала только в день спектакля. Все мои подружки по театральному делу, в том числе и Лелик, убежали в парикмахерскую делать прически и красить ресницы, и я в полном одиночестве разводила гуашь в ведрах — готовила “выпивку” для свадьбы Присыпкина, не подозревая, что театральная выпивка должна быть только съедобной. В результате на выпускном вечере все были красивыми, а у меня руки по локоть красно-синие, про платье вообще молчу. Но не я одна оказалась жертвой. В сцене свадьбы Вовка Марков, игравший Олега Баяна, под тост должен был хлопнуть мое пойло. И в этот торжественный момент я подумала, что если он выпьет, то точно умрет от гуаши.
— Не пей, — шепчу я.
Он слышит, но не может не пить, иначе кто ему поверит? Выпучив глаза, он большими глотками медленно выпил эту фиолетовую гадость. И тогда Ольга Кириенко... вот она, чтобы контролировать “смертельный исход” Вовки, сорвала спектакль — устроила на сцене свадебный дебош, в результате чего школьное начальство дало занавес и объявило наш спектакль закрытым. Вовка не умер, а мы на другой день пошли и сфотографировались на память. В стиле ретро. И по сей день дружим и живем в стиле хулиганско-романтического полета.
Моя мама преподавала в школе химию.
Я хорошо помню, как брала тетради, которые она приносила домой, и играла в школу. Я тоже хотела стать школьным учителем.
Больше всего мне нравилось читать, поэтому я думала, что главный предмет — это литература. Однако неожиданно выяснилось, что есть и другие. Например, черчение. Его за меня делал папа.
А про математику и физику я до сих пор собираюсь написать повесть. Уверена, она станет бестселлером. Но это сейчас, когда прошло столько лет. А тогда мне было не до бестселлеров.
До восьмого класса я училась в кунцевской школе №263, и главной проблемой моей жизни той поры были математика и физика. Я никогда не понимала, о чем говорят учителя, что они пишут на доске и, главное, чего хотят от меня.
В то время меня кроме папы спасала Таня Ефимова, которая сейчас стала большим человеком, главой издательского дома “Здоровье”, а тогда была круглой отличницей и моим лучшим другом. Она подсказывала, когда я потела у доски, давала списывать домашнее задание, и мне никогда не забыть, как она, орудуя у плиты — на ней было все хозяйство, так как родители до ночи работали, — и глядя через плечо в учебник, диктовала мне решение задачи. В девятом классе мы вместе с ней перешли в 710-ю школу на Студенческой улице, и там у меня появился новый друг, Саша Сопровский. Несколько лет назад он погиб, издали наконец книгу его стихов, и все узнали, каким выдающимся поэтом он был. Но для меня он навеки останется человеком, которого учитель математики выгонял из класса за то, что он знал больше его. Мы сидели за одной партой и разговаривали о Булгакове. И только Саше я доверила тайну: я решила отравиться, так как понимала, что выпускные экзамены по математике и физике мне не сдать. Я храню свои дневники той поры, и даже сейчас мне страшно за того человека, который их писал. Перед сном я представляла, как меня будут хоронить, как будут плакать родители, как Сопровский будет курить “Беломор”, несколько раз бралась за прощальные письма. И время от времени спрашивала учительницу физики, для чего такая пытка, зачем мне эти задачи с буковками, от которых стынет кровь, ведь я буду поступать на филфак — а мне отвечали: ты что, потом пригодится, вспомнишь... Вот вспоминаю и снова спрашиваю: зачем?
В сентябре наш 10-й “Ж” поехал на картошку. Я болела и осталась дома. Потом классный руководитель пригласила нас после уроков и сказала, что нужно выяснить, кто украл вино. Оказывается, мальчишки привезли с собой на картошку несколько бутылок, вино было обнаружено и изъято, а потом кто-то его выкрал из комнаты, где жили учителя. Подозрения пали на главного красавца школы, сына Элема Климова, Сашу Пчелякова. Девицы горой встали на его защиту. А Сопровский сидел и молчал. Потом Пчеляков поклялся, что он ни в чем не виноват, и все взоры обратились на Сопровского. Разыгрался скандал.
Когда все вышли на улицу, я ждала Сопровского на школьном дворе, но он как сквозь землю провалился. Я пошла его искать и обнаружила в школьном подвале: он дрался с Пчеляковым. Я бросилась их разнимать, и мне разбили очки. Сопровский, вместо того чтобы утешить меня, обозвал меня дурой и сказал, что не будет меня спасать, когда я отравлюсь. И я передумала.
Позже выяснилось, что вино стащил Пчеляков, но Сопровский его так и не выдал. А я дала себе слово, что, когда у меня будут дети, я никогда не буду ругать их за “двойки”, я, может, даже буду им делать за это подарки. Слово я сдержала, но старые школьные дневники зачем-то храню...