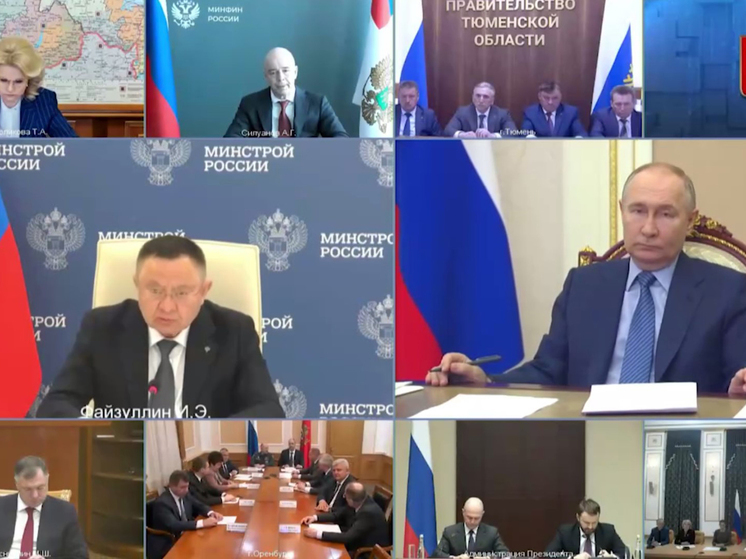Его судьба изобилует самыми неожиданными поворотами. Он мечтал о балете, а всю жизнь проработал в Театре сатиры. Верный сцене, яркий актер фактически отказался от кинокарьеры. В свое время чуть не превратился в алкоголика. А спустя 25 лет супружеской жизни решил обвенчаться.
Сегодня ведущему актеру Театра сатиры Юрию Васильеву исполняется 50. И он ждет от судьбы нового поворота.
Перед корреспондентами “МК” самый улыбчивый наш актер Юрий Васильев из Театра сатиры разыграл целое представление. В своей гримерке, которая досталась ему в наследство от Андрея Миронова, сегодняшний юбиляр предстал и в образе воинственного Красса из балета “Спартак”, и стареющего Чацкого, и безудержного пропойцы, и благообразного отца семейства. А встретил нас, хоть и блистая своей фирменной обезоруживающей улыбкой, но до зубов вооруженный.
— Вооружен и очень опасен? — робко указываю на свисающую через плечо актера кобуру с пистолетом.
— Да-а! (Смеется.) Это для “Трехгрошовой оперы”. Я играю Мекки Ножа, вот и ношу, чтобы, так сказать, в образ войти.
— Не помню, кто сказал эту фразу: “Улыбайтесь, людей это раздражает”. Вам, должно быть, это знакомо.
— Я знаю, кто как ко мне относится: кто меня любит, кто меня, может, и целует, но при этом ненавидит. Я 27 лет в театре, и обмануть меня сложно. Но, должен признаться, самую большую радость мне доставляют искаженные вымученные улыбки моих врагов. Если у меня премьера, а я вижу, что кто-то по этому поводу вздрючился, я понимаю, что сыграл хорошо. Вот это показатель абсолютный.
— А вас разозлить нереально? Вы такой пуленепробиваемый?
— Честно вам скажу: если меня допечь, я могу убить. Но через три часа встану на колени и буду извиняться. Мне становится жалко этого человека, я вхожу в его обстоятельства. Но, по правде говоря, теперь я стал мудрее. Когда-то был ярым максималистом: приехал же из Новосибирска, очень остро реагировал на любую несправедливость. В театре ли, в жизни... Сейчас я научился быть компромиссным. Конечно, если дело не касается каких-то важных вещей. Я не люблю, когда оскорбляют людей. Не люблю, когда режиссер... Нет, он может сделать замечание, но если начинает унижать мое человеческое достоинство, взрываюсь моментально... Ну а так, видите, улыбаюсь.
— За этой улыбкой скрывается много пороков?
— Вы знаете, в принципе я человек открытый. Люди видят, когда я расстроен. Я ведь действительно всегда улыбаюсь, а если вдруг не улыбаюсь, все сразу подходят, интересуются: “Что случилось?” А у меня — да, случилось. Но вы же спрашиваете о пороках... Есть вещи, за которые я себя просто ненавижу. Я выпивал. Но выпивал красиво. Меня нельзя сравнить, скажем, с Далем или Высоцким по степени пьянства. Но еще бы чуть-чуть... Это были полеты: я мог выставить всем, гулял напропалую. Но я этого и не скрывал. Когда мы выезжали за границу, все ведь пили в номерах, а я это делал на площади. То и дело слышал: “Утихомирьте Васильева”. “Как это так?! — недоумевал я. — Сегодня же 7 ноября!” Но когда понял, во что это может перерасти, что из-за выпивки могу просто потерять семью, я сказал себе: стоп. Восемь лет уже не пью. Ну, значит, я не умею пить. Кто-то может употребить две рюмочки, просто для кайфа, и останавливается. Мне нужно много. И сейчас я не пью ни в радости, ни в горе — и при этом абсолютно прекрасно себя чувствую. Как говорил Светлов: “Оказывается, не пить тоже интересно”.
— Вас называют — наверняка вы это и сами слышали не раз — самым танцующим среди драматических актеров. Подтверждаете?
— Это сказал, между прочим, великий Марис Лиепа. Поэтому...
— Поэтому сложно спорить?
— Нет, не сложно. Дело в том, что я с детства восторженно воспринимаю искусство балета. И самое большое потрясение — спектакль “Спартак”. Тот еще: с Васильевым, Лиепой... Помню, после спектакля, пока ждал троллейбус, прямо на остановке я станцевал вот это все...
(Юрий Борисович вдруг вскакивает со стула и начинает демонстрировать, как это было. Зрелище, надо сказать, впечатляющее.)
— ...А потом, — немного запыхавшись, продолжает Васильев, — в 6 утра приезжал в Щукинское училище, надевал лосины и, в образе Спартака или Красса, полностью танцевал этот балет. Честно говоря, я коллегам завидую, балет — моя несбывшаяся мечта.
— Но вы не ответили: вы лучший танцор среди актеров?
— Ну не знаю... Нет, не лучший.
— А кто лучше вас?.. А вот и не вспомните.
— Нет, ну почему? Сейчас... О! Костя Райкин, думаю, лучше. Но если говорить о классическом танце, я — лучший.
— А певец? Вы же очень часто поете.
— Нет, конечно, далеко не лучший. В нашей профессии вообще не может быть лучших. Ну кто лучше: Евстигнеев или Леонов, Николсон или Де Ниро? Это же не спорт, где голы, очки, секунды.
— Но вы сравниваете себя с другими актерами?
— Учусь. Понимаете, цель моей жизни — стать хорошим артистом...
— Разве еще не стали?
— Ну, я профессионал. Но знаю, что могу больше... Я сам строю свою судьбу. Сам отказался от молодых ролей, понимаю: они должны уйти к молодежи. Не боюсь старости абсолютно. Я буду характерный: с животом могу играть, каких-то хилых интеллигентов. Да кого угодно! Вот этого во мне нет: я герой, и в 70 лет буду играть Чацкого. (Васильев кряхтя сползает с кресла, изображая дряхлого старика, и таким же натужным голосом: “Чуть свет уж на но-гах, и я у ва-ших ног”.) Этого не будет никогда. Миронов замечательно как-то сказал: “Жалко мне смотреть на потуги человека, который старается доставить эстетическое наслаждение”. Искусство должно быть легким.
— А чувство зависти вам знакомо?
— Черной зависти у меня не было никогда. Таланту бессмысленно завидовать. Никогда у меня не возникает такого: “Ну как же так? (Театрально крутит руки.) Что же мне делать? Ну все: вот он, появился”. Вот сейчас к нам пришел Федя Добронравов, замечательный актер из “Сатирикона”, Юра Нифонтов. Я, вроде бы ведущий артист этого театра, мог бы и на себя чуть-чуть одеялко потянуть. Но! (Юрий Борисович поднимает вверх указательный палец.) Когда говорят: “Какой у вас замечательный ансамбль!” — для меня это гораздо дороже, чем будут говорить: “Говно спектакль, но Васильев играет потрясающе”.
— Мне кажется, в театре вы любимчик. Особенно, наверное, у дам. Вера Васильева, например, о вас с такой нежностью говорит.
— Ну, наверное, если они об этом говорят. Но это обоюдный процесс. Если я люблю людей, то и они меня любят. Если я вижу, что Вере Кузьминичне нужно помочь, я ей помогаю. Жестко, порой жестоко. Но помогаю. Честно вам скажу: существует 3 проблемы, которые меня волнуют в жизни, — брошенные животные, брошенные дети и брошенные актеры. А это и есть старики. В театре существует любовь, и это нормальное явление. Сегодня режиссер любит вас, вы молодой. Потом пришел следующий, и режиссер любит уже его. А вам-то что делать? Актеры — очень ранимые люди, особенно женщины. Их ведь много, а ролей мало.
— Насколько я знаю, ведущим актером в театре вы стали благодаря, а не вопреки конфликту Плучека и Миронова. Тогда ведь вам досталось шесть главных ролей?
— Я действительно вошел в театр в момент конфликта. И меня все время как бы подставляли. При Миронове говорили: “Вот он въехал, вот он Хлестаков, вот кто должен...” Но, во-первых, я бы такого сопоставления никогда себе не позволил. Я был работягой — помимо шести главных ролей играл во всех без исключения массовках — и недаром на программке к своему последнему спектаклю “Тени” Андрей мне написал: “Юра, восхищаюсь вашей работоспособностью и увлеченностью. Ваш Андрей Миронов”... Но я бы не хотел говорить на эту тему. Понимаю, аура Андрея Александровича очень сильна в этом театре. Но давайте хоть в 50-летие на сравнении меня с Мироновым поставим точку.
— Волей-неволей получается. Вы ведь и гримерку его занимаете.
— Бесспорно, я учился, стоял в кулисе и смотрел, как Актер делается. Но я учился и тому, чего не нужно делать, чего я совершенно не хотел бы использовать.
— То есть слепо Миронову не подражали?
— Да что вы, я вообще другой человек. Наверное, есть что-то схожее: я пластичен, музыкален, у меня абсолютный слух — когда-то на скрипке играл. Но сравнивать нас смысла не имеет. Помню, один раз, когда Миронов заболел и лег в больницу, я отказался от роли Хлестакова. Меня ввели за неделю до спектакля, он разрешил, чтобы играл я, сказал: “Юра пусть сыграет”. Я начал репетировать со вторым режиссером. И естественно, за неделю своего Хлестакова я создать не смог, а подражать Миронову не хотел. И на прогоне сам остановил спектакль в конце 1-го акта. Сказал Плучеку: “Валентин Николаевич, я не смогу сегодня сыграть. У меня нет своего Хлестакова”. И он меня понял. “Да, знаешь, — говорит, — ты прав. Ты никогда не проваливался в этом театре, и я не дам тебе провалиться”. А после смерти Миронова мне действительно предлагали его роли. Я и тогда сказал: “Нет, этого не будет”.
— Вы говорите, что не нужно сравнивать, и это правильно. Но... вот сейчас вы повернулись в профиль, и я почему-то увидел Миронова... Что-то есть. Причем Миронова уже зрелого. В роли Фигаро или Хлестакова.
— Ну может быть. Мне говорили, что похож. Да я и сам замечал. Он ведь всегда отражается в моем зеркале (Юрий Борисович показывает на три фотографии Миронова, висящие на противоположной зеркалу стене гримерки.)
— Это его фотографии или ваши?
— Его. Полностью его уголок. Как был, так и сохранился. Только столика нет.
— Все. Значит, на этом ставим точку. Давайте о семье, если позволите. Ваша жена, насколько я понимаю, не работает?
— Не работает.
— Вы довольны этим обстоятельством?
— Абсолютно.
— Почему? Кто-то должен ждать актера?
— Конечно. Потом моя Галя столько работала, она ведь 13, по-моему, лет танцевала в красноярском ансамбле “Сибирь”. Объездила весь мир, каждый день новый город, новая гостиница. А я ее увел. И из ансамбля, и от человека, с которым она была прежде. Они вот-вот должны были расписаться, а я сказал: “Нет, у тебя будет свадьба со мной, а не с ним. Привезу к себе в общежитие: понравится — останешься, нет — отвезу обратно”. Каких-то шариков в комнате понавешал, еды купил, шампанское, коньяк, сразу — обручальные кольца... “Это все, что у меня есть, — говорю. — Но я тебе обещаю, что стану хорошим артистом”. Потом была масса всего. Сколько раз она шла работать, чтобы просто спасти семью. На одну зарплату в театре ведь не проживешь. И гербалайфом торговала, и шмотками какими-то на рынке “Динамо”. Потом на машинистку выучилась — устроил ее в Минмонтажспецстрой. “Боже мой, — думал я, — человек, который объездил весь мир, сидит и печатает на машинке”. А какая была радость, когда мы получили первую комнату в коммуналке, потом первую квартиру. Помню, Галя вошла туда и заплакала. Ой, много чего было. Мы же в этом году отметили серебряную свадьбу.
— И обвенчались, кстати. Почему спустя 25 лет? Что-то снизошло?
— Галя давно хотела, а я чего-то все боялся. А однажды был на передаче “Что хочет женщина”. Увидел там семью: много детей, жена как-то удивительно, по-особому говорит о своем муже, он такой спокойный, уверенный. И я вдруг задал вопрос: “А вы обвенчаны?”. “А как же?” — говорят. В тот же вечер я подошел к жене и сказал: “Я хочу обвенчаться”. Потому что настало время. У нас были разные периоды в жизни. Практически расставались. По моей вине. Но я понял, что жить без нее не могу. Она друг. Сколько раз меня спасала, сидела у моей кровати, когда я почти умирал — у меня ведь было предынфарктное состояние. Она не теребит меня бриллиантами или шубами. Понимает: мы живем на столько, сколько я зарабатываю. Я понял, что нужна машина, купил. И эта “Нива” у нас уже семь лет. Дача — очень летняя. Это мои возможности, и я этого не стесняюсь. Честно. У меня есть что-то другое, гораздо более важное — у меня есть покой в семье.
— Сыном довольны — как отец?
— Вы знаете, в детстве Саша меня так редко видел. Ему только фотографии показывали: дескать, вот твой папа. А в тот период, когда я пил и меня буквально приносили домой, сын, глядя на все это, испуганно убегал в свою комнату. И какой-то момент, конечно, был упущен. Одно время мы с ним не разговаривали, не общались. Но благодаря моей жене Саша все-таки сохранился чистым парнем. Он абсолютно современный, на все имеет собственное мнение. Были и у него ошибки. Я прошел опасность алкоголя и пару раз замечал, что это может грозить и ему. Тогда у нас состоялся очень серьезный разговор. А ведь Саша после окончания десятилетки хотел поступать в школу милиции — с мафией, понимаешь, бороться. Однажды он попал в милицию и его там хорошенько избили, — это послужило для него важным уроком.
— И сейчас вы с сыном — друзья?
— Друзья. Он видит, когда мне плохо, может подойти сказать: “Папа, не переживай”. Утром он говорит “доброе утро”, на ночь целует нас, машет вслед, когда уходим, — у нас такая семейная традиция. И у него есть настырность. Саша хочет стать хорошим джазовым музыкантом. Совершенно одержим гитарой, играет с утра до ночи, ходит на всякие сейшны. Недавно его пригласили в оркестр Цирка на Цветном бульваре. Говорю ему: “Сынок, сегодня деньги надо зарабатывать. Как ты будешь жить?” Только отмахивается: “Папа, у меня замков никогда не будет. Мне этого не надо”.
— Что ж, весь в отца. Вы тоже, я так понимаю, денег особо не нажили.
— Это точно. У меня даже на книжке ничего нет. Конечно, театральной зарплаты не хватает. Но я еще преподаю, играю в театре “Модерн”, сейчас, слава богу, стали приглашать сниматься.
— А почему вас так не любит кино? Вот вопрос, на который сложно найти ответ.
— А для меня он ясен. Когда я только вышел из училища, почти сразу отснялся в четырех фильмах: “Портрет с дождем”, “4:0 в пользу Танечки”, “Среди тысячи дорог”, “Наследство”. А уж пробовался я! И у Гайдая, на Хлестакова, между прочим, и у Михалкова, и у Матвеева. И у кого я только не пробовался. Но... У меня было 33—35 спектаклей в месяц. Играл каждый день. А если еще и сниматься... И я понял, что в таком режиме просто не смогу жить. Начал отказываться. А, знаете, кино — штука жестокая. Ты отказался три раза — и все: “Васильев? Да нет, он занят в театре”. И на 10 лет я вообще исчез. А потом исчезло само кино.
— И вы снялись в рекламе.
— Ой, лучше не напоминайте. Вы даже не представляете, что это было. Да, я вышел из студии, имея в кармане 2000 долларов, рассчитался с долгами. Но потом три ночи не спал — переживал страшно. Все думал: до чего я докатился. Но я настолько мужчина, настолько нежадный и настолько сибиряк... Эта жизнь в долг меня просто убивала.
— Но не все так плохо. Суммируя все вышесказанное: дом вы построили, сына воспитали...
— Даже дерево посадил. Кедр сибирский.
— И что остается? Все-таки 50 лет на носу. Возраст для мужчины, как ни крути, определяющий. Дальше жить будет не скучно?
— Ни в коем случае. Я жду от судьбы какого-то подарка. Быть может, самого главного. Какого-то поворота нового. Чтобы меня закинуло... Не в Министерство культуры, конечно. Но я верю: что-то еще должно открыться в этой жизни. Мне ведь ничего не достается просто так, само с неба не сыплется. Все, чего я добился, — награда за мой труд. Я не могу сказать, допустим: “Я благодарен театру за то, что...” Мы с театром квиты. Я точно так же отдал театру, как и он мне. Работал и с приступами колита, и на второй день после предынфарктного состояния. Я ничего никому не должен.
— Что вы этим хотите сказать?
— Нельзя гневить судьбу — мне здесь интересно. Я обожаю свою профессию. И ненавижу ее. Как замечательно было сказано у Кокто в пьесе “Священное чудовище”: “Я люблю этот театр и ненавижу его”. В рамках Театра сатиры, может быть, мне уже и тесно. Я добился того, что здесь могу и ставить, и играть — с Александром Анатольевичем Ширвиндтом абсолютное взаимопонимание. Но мне хочется, может, бред полный, сыграть шута в “Короле Лире”. А здесь я его, увы, никогда не сыграю...