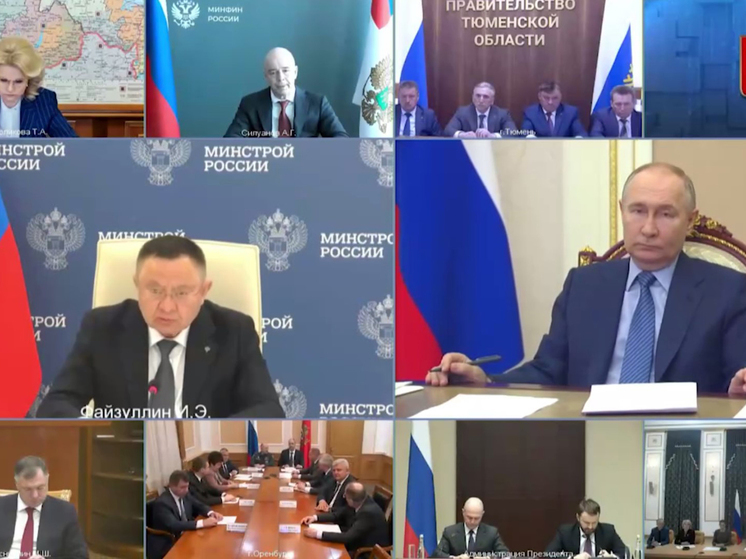Дрессировщиками не становятся. Ими рождаются. Это окончательно становится ясно, глядя на артиста театра и кино Льва Дурова. Нет, однозначно, он унаследовал смелость и кураж от своих именитых цирковых родственников. И если не в клетку с хищником, то в горящую избу или бушующее море он, не задумываясь, войдет.
1.
— Лев Константинович, внесите ясность в ваши династийные отношения с Дуровыми?
— Я — внучатый племянник Анатолия Владимировича Дурова. Род наш начался с 1540 года. Были полковник Афанасий Дуров, потом Надежда Дурова. Кстати, моя тетка Зинаида Владимировна Рихтер — она была писатель-журналист, замужем за немцем — очень портретно похожа на Надежду Дурову, девицу-кавалериста. Еще — восемь стольников Петра I — тоже Дуровы, а также настоятельница Новодевичьего монастыря Анастасия Дурова. А потом идут цирковые Анатолий и Владимир — мои деды. Наталья Дурова — моя двоюродная сестра. И папа один из Дуровых, из этого самого рода. Мне даже племянник как-то предлагал вступить в Дворянское собрание, все документы поднял, но я сказал, что бреюсь по утрам и вижу свое лицо — и в Дворянское собрание мне вступать не стоит.
— А как же вас пронесло мимо семейной профессии?
— Там какая-то семейная хренотень: ведь Владимир и Анатолий — родные братья, но они не любили друг друга. Один приписывал себе выходки и трюки брата на манеже. На почве личной неприязни один держал при себе борца Поддубного, а другой — Заикина. И так случилось, что они как-то в детстве заикнулись насчет меня и цирка, но мама резко сказала: “Нет”. И они быстро успокоились по этому поводу.
— Может, вы долго не общались семьями, потому что гордость и достоинство не позволяли лезть в именитую родню?
— Честное слово, не знаю. Они жили своей жизнью, моя семья своей. Отец работал в союзе “Зернопром”, никакого отношения к искусству не имел. А мама в военно-историческом архиве научным сотрудником трудилась. Мы ведь с Натальей познакомились недавно, хотя она меня знала, и я ее прекрасно знал.
— Вражда была?
— Нет, никакой вражды. Даже не знаю, почему так вышло. Общаться начали после того, как встретились на каком-то вручении — то ли звание, то ли еще что-то нам обоим вручали. Помню, какая-то женщина закричала: “У нашей династии сегодня большой праздник. Я и Левочка получаем звание”. Набросилась на меня, смотрю, а от нее духами и зверьем пахнет. Думаю — Наташа.
Самое смешное было тогда, когда я к ней пришел с внуком Ваней: захожу в Уголок Дурова, а там — масса попугаев, и один говорит совершенно отчетливо: “Ты — Дуров”. Я говорю: “Чего-чего?” Он опять: “Ты — Дуров”. Тогда Ваня-внук спрашивает: “Деда, он что, тебя знает?” Я говорю: “Да нет”. Вбегает помощница Натальи: “Лев Константинович, он что, правду сказал?” Я говорю: “Сейчас еще раз проверим: “Кто я?” Попугай: “Ты — Дуров”. Прибежала Наталья: “Лева, он никогда этого не говорил”. Правда, с тех пор попугай ни разу, гад, этого не произнес.
— А вас никогда зверей не тянуло дрессировать?
— Нет. Как-то не до этого было. Отвага нужна, это тоже некое призвание.
— Людей дрессировать лучше?
— Да нет. Людей дрессировать не получается все равно. Люди, они похитрее любого хищника. Поэтому дрессуре не поддаются.
2.
— В кого же вы пошли — такой мастер слова?
— Все неожиданно как-то случилось. После одной драки, помню, в Лефортово это было, мы с Тишихой дрались — такой был райончик в Москве, самая настоящая деревня. И какой-то парень после жестокой драки подошел и сказал: “Слушай, а может, лучше в Дом пионеров пойдем?” А для меня голубятня — родной дом был. И все-таки с приятелем я пошел к пионерам.
— У вас с детства такая хорошая память? Я просто восхищаюсь, как можно столько помнить.
— У меня нет ближней памяти. То, что, например, случилось вчера или сегодня, плохо помню. А то, что было... Я хоть сейчас любой монолог, из любого спектакля, который был снят 20 лет назад, могу шпарить. Скажут мне: “Брат Алеша”, скажут мне: “Отелло” — пожалуйста. Начну молотить все что угодно.
У нас было принято так репетировать. На третьей репетиции я закрывал текст, все шпарил, меня проверяли, выяснялось, что я только иногда переставлял слова. А у Броневого вообще феноменальная память на текст. В “Семнадцати мгновениях весны” он то ли шесть, то ли двенадцать картонок с текстом ставил перед собой, читал, потом говорил: “Включай мотор!” И огромную сцену одним куском делал. Проверяли — ни одной ошибки.
— А какими еще особенностями обладает ваш актерский организм?
— У меня, вообще, были такие странные штуки. Однажды я в компании ни с того ни с сего стал рассказывать про Махно. Сидели вот так, и я говорю: знаете, почему его Советская власть сделала бандитом? Потому что он не пустил продразверстку гулять по стране. Он землю поделил поровну, расставил посты и сказал, что ни одного продразверсточника сюда не пустит. Мол, мы посеяли хлеб, мы его обмолотили — и он наш: хотим продадим, хотим не продадим. У него была железная дисциплина: за мародерство или еврейские погромы — расстрел на месте. Он форсировал Сиваш. Он придумал “Тачанку”, а никакой не Буденный.
Дальше взял Крым, ему сказали, что это будет республика. Наградили орденом Красного Знамени, а Фрунзе потом прислал ему ультиматум — уйти из Крыма и войска разоружить. Ни один махновец домой не пришел. Нет такого человека, кто мог бы сказать, что служил у Махно, — всех расстреляли по дороге. А Махно дали корабль, и он уплыл в Румынию. Потом работал плотником в театре в Париже. Был застрелен в спину, и умер в госпитале №43 Парижа от огнестрельной раны.
— Вот откуда вам это известно было?
— Вот и мне говорили: “Ты что, обалдел? Хоть молчи! Ты дурак, что ли, Лева? Тебя же посадят!”. Прошло много лет, и вдруг звонит один из той компании: “Ты “Литературку” не читал? А ты прочти. Там под твою диктовку статья написана про Махно слово в слово”. Я пошел в киоск, купил газету. Разворачиваю: все, что я рассказывал, — под копирку. Честное слово, я нигде этого не читал, не знаю, откуда что берется. У меня выскакивают вещи, которые потом подтверждаются.
Таких совпадений у меня очень много, а глупых, так это просто огромное количество. Когда неожиданно вот кто-то что-то скажет, а я: “Пожалуйста” — у меня в кармане это имеется.
— То есть?
— Летим на самолете на гастроли в Челябинск. А меня провожали братья Воронины — акробаты. Дали мне сумку, пакет какой-то, но не сказали, что там. Они только-только приехали тогда из-за границы. В самолете начинаю валять дурака, хожу по проходу, как стюардесса, спрашиваю, кому что принести.
— Джин-тоник, — говорит один артист.
— Сейчас, — говорю я, иду, достаю из сумки бутылку, а это джин с тоником. А ведь я понятия не имел в то время, что такое джин. Вот что это такое — не знаю? Почему Воронины мне принесли пакет? Почему я подошел к этому артисту, и он спросил именно джик-тоник?
3.
— Да вы, Лев Константинович, ясновидящий. А вы предвидели, например, что станете худруком Театра на Малой Бронной?
— Никогда в жизни! Я не хотел! Заставили! Наоборот, я все время от этого бежал.
— А что дочка артисткой будет, например?
— Катька, она же вообще у меня толстая была. И когда она сказала, что будет поступать в театральное училище, я ей сказал: “Кать, а тебе ничего не кажется?” Она говорит: “А чего?” Ну, понимаешь, какая штука, дочка, все-таки... данные” Она — мне: “А у тебя?” Я заткнулся. Спрашиваю: “А что ты будешь читать?” Она отвечает: “Монолог Алеши Карамазова” Я ей опять: “А тебе ничего не кажется?” Она: “Нет. У вас актеры играют Алешу Карамазова и понятия не имеют, о чем они произносят монолог, а я знаю”. Говорят, что там вся комиссия обревелась, когда она читала монолог. Они вообще у меня все такие. Вот внучка уехала в Абакан на 3 года, работала в кукольном театре, завлитом, организовывала гастроли. Как муж ее закончит учиться, вернется в Абакан. Она говорит: “Вы не представляете, в каком ужасном городе вы живете”.
— А вы на себя смотрели? На что вы рассчитывали, глядя в зеркало? Вот у вас, кстати, какой рост?
— У меня 1,63 см.
— Как у Ленина.
— Да. Как у Наполеона, Ленина, как у Геракла — у него такой же рост был.
— Ой!
— Это по фидиевским канонам, а не по поликлетовским. Когда или семь раз голова укладывается в теле, или шесть. Вот я шестиголовый канон. Геракл был моего роста, просто поширше в плечах. Когда я поступал в школу-студию МХАТ, одна иногородняя девочка, которой разрешили ночевать в маленькой комнатке по соседству с помещением приемной комиссии, сказала мне: “Вчера было обсуждение, и говорили, что ты — замечательный парень, но такого маленького роста”. Все в комиссии стали кричать: “А Грибов какого роста? А Комиссаров? Такого же маленького. Ну, давайте, выгоните нас всех, маленьких, из МХАТа”. Я, между прочим, до 3-го тура дошел в Вахтанговском, но во МХАТе мне портреты в фойе понравились, хотя я никого не знал. И остался во мхатовской школе.
— И комплекса мужчины небольшого роста, хотите сказать, не было?
— Нет! Сейчас скажу, почему. Меня выгоняли из многих школ за разное. И когда приходишь в другую школу, тебя проверяют. Я однажды дрался один на один с целым классом. В школе так проверяли, тут главное — не теряться: если видишь, что на тебя кулак идет — ты голову в сторону, он в стену ба-бах. И следующий таким же образом ловишь, а сам в это время умудряешься кому-то засадить. Я не сдался, я не плакал, на колени не вставал, а продолжал до последнего драться. Сам одним глазом не вижу, губа висит, молчу и смотрю на них: “Ну как, ребята?” Они себя неловко чувствуют, потому что их было много, а я один.
— А выгоняли из школы за что?
— Расскажу один случай. Я пришел в школу, а директора школы звали “таракан”. Она была двухметрового роста и с усами. Я только вошел в школу, тут же кто-то меня зацепил в коридоре, я ответил. Случилась маленькая заварушка. И вдруг появляется она, почему-то ходила в белом халате. Вытащила из кармана огромный ключ и стала бить меня по лбу и приговаривать: “В нашей школе драться ни в коем случае нельзя. Мы не терпим хулиганства в нашей школе”. А у меня только одна мысль — на лбу шишка надувается из-за этого ключа. Я думаю: “Сзади на табуретке стоит фикус”. И когда она выдохлась — я сказал: “Сейчас, подождите”. Отвернулся, снял с табуретки фикус, поставил перед ней табуретку, выдернул у нее из руки ключ и стал лупить им ее по лбу: “Человека ключом по лбу бить нельзя, дура, стропила ты усатая, таракан проклятый!”. Она остолбенела. Ключ швырнул в окно. И такая, видно, во мне была жуткая энергия, что этот ключ два стекла насквозь пробил, дырка была, как от пули.
— Какой вы наглый были!
— А она не наглая?
— Она все же директриса...
— Ну ладно. А я человек. ...Я пришел домой и сказал родителям, что из школы ушел: меня все равно из нее исключат.
— Но времена, в которые вы жили, — были страшные, и нельзя было слово директору сказать?
— Не знаю, почему, но я никогда не боялся. Я три года был невыездной. Знаешь, за что? За “Семнадцать мгновений весны”.
4.
— Вот с этого момента поподробнее...
— Я никогда не знал, что существуют выездные комиссии. И никогда до этого не выезжал за границу. И вдруг в ГДР снимают “Семнадцать мгновений весны”, сцену, где Штирлиц меня убивает. Короче, надо идти мне на выездную комиссию — это обязательно для выезда за границу. А я никакой не член партии, никто. Я туда прихожу. Я не знал тогда, что такое — вызвать на ковер. Это, оказывается, не образ: стоит огромный стол, сидят бабы с мужиками в черных костюмах, как отставные военные. И отдельно от всего этого — коврик. Мне показывают: “Вот, пожалуйста, на этот коврик”. Я говорю: “А вы мне сесть не позволите?” Пауза, они переглянулись: “Хорошо, присядьте”. Я увидел стул, сел на него. Первый вопрос: “Опишите флаг Советского Союза”. Мне стало плохо, я сказал: “Черный фон, две кости”. “Назовите союзные республики”. Я сказал: “Малаховка, Кривой Рог, Таганрог...” И так без остановки им молочу, молочу. Наконец кто-то спросил: “Перечислите членов Политбюро”. “Я не член партии и не знаю ни одного члена Политбюро”. Хотя я, конечно, их знал. Когда я дошел до двери, спросил: “Наручники надевать будете?”
Закрыл двери, за моей спиной начался ор. Пришел домой, тут же звонит Лиознова, режиссер: “Что вы сделали? Вас вычеркнули из списков”. Я говорю: “Успокойтесь. Давайте договоримся так: у вас два выхода — или вы заберете живого артиста, или пусть меня Слава Тихонов убьет на Родине. Мне тут приятнее умирать, чем в засранной ГДР”. Потом позвонили директору театра: “Это бандит! Что он нес? Его же просто сажать надо”. Было бы даже интересно посидеть, был хотя бы политзаключенным.
— Скажите, вы специально это делали?
— Нет. Как можно просить гражданина страны описать флаг Родины. Я что, дегенерат?
— Вы, конечно, не дегенерат, но надо в Германию ехать, фильм снимать. Все артисты тогда играли по одним правилам. А вы что, честный такой?
— Не честный. У меня пена поднялась, и я все, что думал, то и сказал. Надо было этим дуракам сказать, что они идиоты и что нас, людей, за идиотов держать не надо. Я даже не думал, буду выездной — не выездной, ГДР — не ГДР. Совершенно наплевать на это.
— Ну а как инстинкт самосохранения? Не работает?
— Нет у меня никакого инстинкта самосохранения на самом деле.
— То есть хотите сказать, что вы ничего не боитесь?
— Нет. Не потому, что я хороший. Я просто такой. У меня есть книжка, подписанная одним писателем. В Ялте был жуткий шторм. Иду по набережной, у меня — белые джинсы, документы и деньги были в кармане. Шторм 8—9 баллов. И вдруг слышу: “Помогите!”, вижу где-то там за волнами синенькая шапочка болтается. Я, не задумываясь, прыгнул и поплыл к этому человеку. Плыть было очень трудно, волна тебя отбрасывает. Все-таки я подплыл к нему и говорю: “Только не хватайтесь за меня. Если вы схватитесь, то я просто утону”. А он уже не разговаривал. Я его подцепил и понял, что я не выплыву, нам хана. И когда уже стал уходить с ним под воду, услышал, что где-то рядом работает мотор. Оказалось, рядом был военный санаторий, и оттуда увидели, как я прыгнул в воду. Они подошли к нам на лодке, мужика вытащили, на нос лодки положили, и кто-то мне крикнул: “Мудила, разве так можно?”
— По характеру вам надо было в клетку входить, вот что я вам скажу.
— Я не побоялся бы в клетку войти. Мы снимали в Бахчисарае. Там была большая массовка — много женщин и детей. Вдруг смотрю, все бегут, и слышу дикий рев. И я понимаю, что они бегут от медведя — там снимался цыган с медведем. И этот медведь встал на задние лапы, орет и идет на толпу. Я понимаю, что он сейчас кого-нибудь догонит и порвет. Я, сам не знаю почему, останавливаюсь перед ним и говорю: “Ты что орешь, гадина? Ты что пугаешь женщин и детей? А ну-ка заткнись, скотина! Ты что, по морде получить хочешь?”. Он затормозился и так смотрит. А я: “Ну-ка, тихо. Ну-ка, иди ко мне сюда”. Я подошел к нему еще ближе, мы как будто обнялись. Прибежал цыган, весь белый. Стоит режиссер, на нем лица нет и говорит: “Да ты что? С ума сошел?” Я подвел медведя к ступенькам, мы сели. У меня даже есть фотография.
5.
— Вы работали с великим Анатолием Эфросом. Даже боюсь спрашивать о нем, потому что вокруг ваших отношений с ним так много всяких слухов, сплетен. Трудно разобраться, где правда об Эфросе и Дурове.
— Эфрос был не такой, как сейчас говорят, — мягкий, как ангел. Нет-нет. Он был очень жесткий человек.
— Ну раз вы медведя уломали, может, вы и Эфроса уломали?
— Нет, я его боготворил. Однажды был случай, когда он на меня кричал. Мы репетировали “Дон Жуана” двумя составами — я с Сашей Каневским Сганареля, а Коля Волков параллельно с Мишей Козаковым — Дон Жуана. Миша был актер агрессивный, на репетициях — такой напор. А Коле для освоения нужно было много времени, он был медлительный актер. Но зато, когда он партитуру выучивал наизусть, уж тут Колю превзойти никто не мог. Но поначалу Миша стал перегонять его сильно. И однажды у Эфроса терпение лопнуло. “Завтра на сцену пойдет Миша”, — сказал он. И получилось, что Эфрос из пары Каневский—Дуров выбрал Дурова. Из пары Козаков—Волков выбрал Козакова. И Коля исчез на три дня.
Я встретил его на улице: “Чего ты на репетиции не ходишь?” Он отвечал: “Выбрали Козакова”. А я ему: “Если ты завтра не придешь на репетицию, то можешь пить дальше. Вон под забор ляг и подыхай. Ты больше никогда ничего не сыграешь. Завтра приходи за полтора часа до репетиции, и мы с тобой походим”. И Коля пришел. Его увидел Эфрос, тут же понял, что Колю привел я. И понял, что сейчас опять начнется мучительный процесс. Дальше — мы с Колей репетируем, Эфрос кричит: “Стоп. В гримуборную”. После очередного “стоп” я за кулисы не пошел и сказал: “Вы нам не даете с Колей пройти ничего, но мы должны же пройти хотя бы акт”. — “Значит, я виноват, что вы не можете...” И вдруг он побежал к сцене, кулаком стал бить и закричал: “Самостоятельности захотел!”. Я ему: “Анатолий Васильевич, ну зачем же вы так? Вы сами прекрасно понимаете, когда вы в зале, а я на сцене — вы маэстро, я щенок. Но мы тоже люди, и дайте нам возможность пройти”. — “Все! Перерыв!” — и выскочил.
Я говорю: “Коля, ни шагу со сцены. Вот сядь у планшета и сиди”. Мы с ним так сели и сидим. Минут через десять прибежал Эфрос и говорит: “Коленька, ты — справа, а Лева — вот слева. Играем”. И все пошло, все встало на место. И на фестиваль “Битеф” в Югославию поехал Коля. А Миша не обиделся, надо отдать ему справедливость.
— Какой самый главный урок вы усвоили от Эфроса?
— Урок? У него же, кроме театра, ничего не было. Я даже не знаю, когда он отдыхал. А ночью, я уверен, думал. Он же никогда в жизни не курил и никогда не пил. И однажды после премьеры спектакля “Друг мой, Колька” (я на нем был режиссером) мы накупили всего и пошли к нему в гости. Он пил с нами на равных: все оказались пьяные, а ему хоть бы хны. Мы стали ржать, а он говорит: “Так скажите мне, вы для чего выпивали — чтобы превратиться в таких идиотов?”
— Почему Анатолий Эфрос ушел с Бронной на Таганку? Большинство считает, что ваши актеры его к этому вынудили. Тем более вышла книга Ольги Яковлевой, актрисы и музы Эфроса.
— Я ее не читал. Я думаю, что 50 процентов из того, что там сказано, — все было наоборот. Мне не хотелось бы об этом говорить. Мне кажется, что произошла некая путаница и глупость. Ведь недаром он в интервью, кажется, последнем, говорил: “Я бы с удовольствием вернулся на Малую Бронную, помирился бы с ребятами”. Никто с ним и не ссорился. Если вы посмотрите стенограммы всех собраний, то увидите, что это все легенды, в адрес Эфроса не было сказано ни одного дурного слова. Ни одного! Там, я так думаю, произошла такая штука: у него были неудачные вторые “Три сестры” и “Дорога”.
И у меня такое впечатление, что Анатолий Васильевич стал немножко нервничать. И еще он сделал одну вещь: мы приехали в Вильнюс на гастроли, меня встретил артист Масюлис. Он говорит: “Зачем Анатолий Васильевич дал интервью к вашим гастролям, где сказал: “У меня труппа состоит или из возомнивших себя гениями, или из расстроенных балалаек”. Я жутко расстроился. Я не мог это принять на свой счет, потому что я никогда не мнил себя гением, никогда не был расстроенной балалайкой. И до сих пор, хоть я и старый, но я не расстроенная балалайка. Если я почувствую расстроенность, то моментально уйду из театра, сяду и буду в окно смотреть. Потом было собрание, и одна из актрис спросила: “Анатолий Васильевич, это вы написали?” — “Да, я так считаю”.
Это все легенды — ученики Эфроса, измена... Это неправда. Хотя у него даже в книжке есть: “Один из моих учеников про мои спектакли говорил то, что мне потом говорили у начальства”. Но ведь он не пишет “Дуров”, потому что это неправда, он сам это знал. Я вообще в жизни молчал и делал вид, что все замечательно.
— А кому выгодны такие слухи? Вашим недругам?
— Не могу понять. Даже если он так думал, то, простите, Анатолий Васильевич, нехорошо. Я никогда у вас ничего не просил. У меня ни к кому нет ни малейших претензий — ни к Яковлевой, ни к Эфросу. У меня одна вина перед ним.
— Хотела как раз спросить, в чем вы считаете себя виноватым?
— Глупость. В это время у меня была некая инерция, так скажем, ведущих ролей. В это время он ставит “Наполеона”. И подходит ко мне Ольга Яковлева: “Только ты не вздумай от чего-то отказываться”. — “В каком смысле?” — не понял я. “От маленькой роли, не будь дураком”. — “А почему вы мне это говорите? Еще нет распределения”. А в это время я уже начал репетировать “Обвинительное заключение”. И я написал заявление: “Прошу не занимать меня как актера, потому что я ставлю такой-то спектакль”. А Эфрос это принял как мое нежелание работать с ним. И хотя это только совпадение: мое нежелание играть эпизод с просьбой не занимать меня. Я не имел права это делать. Вот это моя вина. Если бы меня Эфрос позвал и сказал: “Мне нужно, чтобы ты сыграл”, — тогда я бы играл. А когда кто-то со стороны... Меня еще это вздрючило. И я после этого моментально, дурак, написал заявление. Конечно, я не имел права это делать.
6.
— Самые яркие ваши встречи?
— С Шукшиным связаны замечательные истории. Его однажды чуть не застрелил конвоир. Фильм, по-моему, назывался “Остров счастливый”. Посреди острова, на котором мы снимались, был маленький лагерь. Там держат преступников в кандалах и полосатых костюмах с оранжевыми кругами. Если побег, то легче целиться. Там мальчик снимался в картине. Отец у него был как раз в этой зоне, а мать — алкашиха. И чтобы как-то поддержать мальчика, Макарыч взялся его снимать. Мальчику платили какую-то денежку, мы ему шмотки все купили.
Однажды мы были на берегу, подошел катер с “полосатыми”, цепями гремят. Вдруг мальчик закричал: “Папа! Папа!” — и побежал. Папа тронулся навстречу, а конвоир: “Назад! Стрелять буду!”. Выскакивает Макарыч: “Ты что, с ума сошел! Ребенок с отцом встретился. Тебе что, жалко? Пускай они обнимутся”. А конвоир кричит: “Назад! Стрелять буду!” — и передернул затвор. И я тогда понял, что он действительно выстрелит. Я на Макарыча прыгнул, еще кто-то, мы его завалили. Мат жуткий. Мальчик рыдает. Макарыч лежит в чудовищном состоянии, зубами скрипит: “Ну что же за люди? Ну что же за падлы такие? Не дать ребенку с отцом повидаться?”.
А вот второй такой был смешной. Сидим в столовой: режиссер, оператор, Василий Макарович и я. И дали рагу. Там такие макароны — черные, в палец толщиной, ложка такой дрисни, как будто ворона пролетела и что-то уронила. И у каждого желтый сморщенный соленый огурец. У Макарыча желваки так ходят, ходят, и он говорит: “Сволочи, огурец по бочкам замучили”. У меня просто сердце сжалось — такая боль за огурец.
Или вот “Ленком”. Детский спектакль про войну. За кулисами, когда я туда пришел, артист Саша Покровский говорит мне: “Ты видишь, я партизан, меня немцы допрашивают. Ну, гады, исщипали всего”. А у него, вижу, косоворотка в кровавых пятнах — коллеги исщипали. “Сейчас я отомщу немцам. И мы с тобой пойдем к директору”. Загорается следующая картина, за столом немецкий штаб: сидят Вока Ларионов, Каневский и Мишка Державин. Сашка так целенаправленно говорит из кулис на сцену: “Немцы, немцы, среди вас еврей”. В этот момент Ларионов фуражку на глаза, Мишка отвернулся. А Сашка продолжает: “Немцы, под столом у вас еврей”. Вока шепчет: “Занавес закройте”.
7.
— Несколько лет назад у вас случился инсульт. Как удалось вернуться в профессию?
— Там такая штука получилась. Мы снимались, я с бритой головой под солнцем просидел в пластмассовом кресле целый день. И никто не сказал, и я сам не догадался что-то на башку накинуть. Когда съемка закончилась, я наклонился, чтобы переобуться, меня сильно качнуло. Меня подхватили, я решил, что сейчас все пройдет. Сел в машину, я еще тогда ездил, и поехал на дачу. А по дороге мне показалось, что заднюю дверь не закрыл. Вылезаю из машины — совершенно потерял, где право, где лево. Хожу, цепляюсь за машину, падаю, встаю — ни один человек не остановился. В конце концов я нашел дверь, сел и приехал на дачу. Навстречу идет Катя, дочка. “Дед, что с тобой?” — “Да ничего, все нормально”. Ночью отнялась левая рука, ее обложили горячими бутылками. А утром встал, умылся, а в голове — взрыв с таким гулом: бум-бум. И все — речь вылетела, ноги отнялись. Нет, без сознания я не был.
— Перепугались?
— Нет, это просто в другое измерение уходишь.
— Сколько вы пробыли в таком состоянии?
— Полтора месяца. Но я уже на 10-й день сбежал из больницы, доснялся. Мы с Катей приехали на съемку, я плохо вижу, тогда она вылила ведро воды и говорит: “Ты видишь лужу? Вот дойдешь до нее, поворачивай налево. И делай здесь, что хочешь”.
— Скажите честно, попрощались с профессией?
— Да что вы! Я после этого тут же спектакли стал ставить, книжку написал. Я там был — ничего страшного нет. Просто улетаешь в другое измерение и становишься совершенно равнодушным по отношению к этому времени.
— Как дорогу назад нашли?
— Заставил себя найти дорогу.