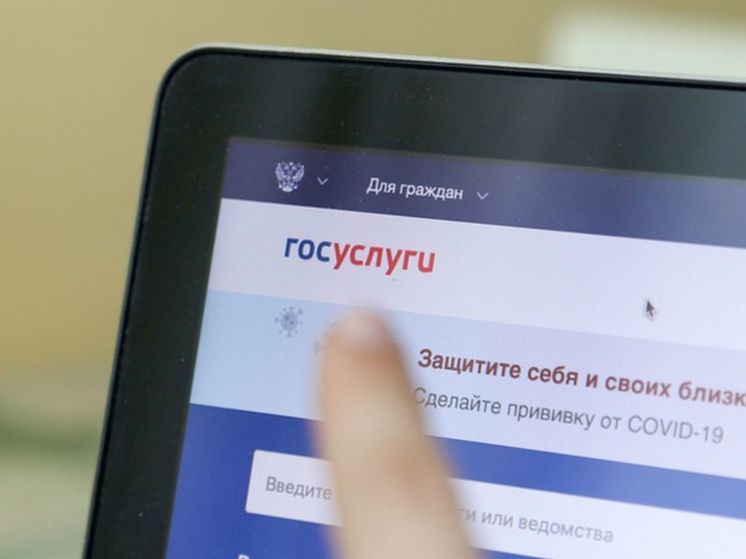После Эрнста трудно брать с кем-либо интервью: сам отказываешься. Он тот редкий, кто всегда держал “империю в голове” — империю камня и бронзы, как Микеланджело глыбами мрамора соизмеряя миры. И когда мальчишкой грезил вырубить Деву с распростертыми дланями прямо из Уральских гор, а в каждой длани — живые ели в тумане. И когда ставил в молельне Папы святой крест. И когда рубил Хрущева из двух правд...
— Вы курите? — Кафешка в “Национале”. Эрнст Иосифович оглядывает зал, ища официанта. — Нет? Ах, какие все цивилизованные люди! А ведь мне жена запрещает, поэтому я выпрошу у них ровно одну сигарету. А вам я закажу рюмочку коньяку. Разрешите мне это сделать.
Официант сует ему книжку-меню:
— Я не сноб, чтобы это читать. Принесите хороший. Не надо там “столетней выдержки” и прочее... Принесите нормальный. Выпьем.
— Ну, давайте за вашу газету!
Люблю я ее...
— Сотни газет на 9 апреля так и сяк будут вертеть вашей фамилией...
— Остроты на предмет фамилии меня не то чтобы оскорбляют, но кажутся пошлыми: “Известный Неизвестный” в заголовках... Это как с детства помню безобидную дразнилку: “А теперь извлекаем квадратный корень из... Неизвестного!” И все — “ха-ха”.
— Мало что изменилось. Кстати, откуда род Неизвестных тянется?
— А я не знаю. Папа был белым офицером, служил у Антонова. Так после революции и за меньшее расстреливали. Вот он и сменил окончание с “Неизвестнова” на “Неизвестного”. Неизвестновы — древняя сибирская фамилия, принадлежала обычно бандитам, убежавшим из тюрем, каторжанам, беглецам, примкнувшим к яицкому казачеству. Сейчас вроде в Челябинске раскопали моих предков на много лет вглубь, но... очень возможно, что деды мои вышли из кантонистов. Крестили ребят 7—8 лет из еврейских семей и давали нелепые фамилии — Беспрозвановы, Непомнящие, Неизвестновы...
...Он воевал. А это совсем другой счет. Тут он мемуар-роман пишет в четырех частях; вторая как раз на войну приходится...
— Война прошла как сюрреалистическое видение, и стройно рассказать о ней нельзя. Виктор Некрасов писал о позиционной войне; я застал войну наступательную, поэтому описать коллектив или отдельные характеры нет возможности: люди умирали быстрее, чем ты узнавал их имена. Не люблю этих воспоминаний, но и на моем счету 16 убитых фашистов при очистке ходов сообщения...
— В рукопашной?
— Я не убивал ножом или штыком; граната, автомат. Бой лицом к лицу.
— Кажется, уже на территории Австрии вы взяли в плен “языка”?
— Ну, не я лично, но, как сказано в указе о награждении, “благодаря моим действиям”; в то время не хватало офицерского состава, и взводом часто командовал старшина, а я с моим крохотным званием “младшего лейтенанта” заправлял ротой. Да, все так и было: Второй Украинский фронт; и мы идем в атаку у австрийского местечка Роккендорф...
— По той самой Австрии, в которой позже вы получили гражданство...
— Это было очень смешно! Когда я в 76-м приехал в Австрию, меня пригласил к себе канцлер Крайский. Для того чтобы начать светский разговор, он задал вопрос:
— Вы первый раз в Вене?
— Нет, второй.
— А когда был первый?
— Сразу же после моего дня рождения: 10 апреля... 1945 года.
Крайский волком посмотрел на референта: что ж дали недостаточно сведений?!
— Как же получилось, что вас досрочно похоронили?
— Чистая бюрократия. Вся эта история до сих пор выглядит неправдоподобно; я был очень серьезно ранен. К тому же — шок. Лежал в гипсе. У меня зафиксировали клиническую смерть. Врач делал обход, а за ним шел бюрократ и ставил “галочку”. Умер. Санитары поднесли тело к лестнице, ведущей в морг. Но решили не спускаться, а просто взяли и сбросили. Гипс лопнул. Я очнулся от адской боли и закричал. Меня реанимировали. Но документы о смерти уже ушли. И вскоре... моя мама получила похоронку. А папа в то время был военным врачом, он запросил через свои связи в военкомате, мол, перепроверьте. Ну и прислали... вторую похоронку. Тогда отец меня похоронил. А мама не верила. Вот что значит материнское чутье. Ждала меня.
— И дождалась. Знаменитая Белла Дижур.
— Она и сейчас жива, ей 101 год. Я снимаю ей квартиру в Нью-Йорке. Могу похвастаться, что несколько лет назад в Америке вышла книга ее стихов “Тень души”. Я всегда немножко скептически относился к сентиментальным стихам моей мамы; она человек старой школы, ученица Брюсова и даже невеста Заболоцкого, хотя вскоре... встретилась с папой. Но сейчас я с удовольствием читаю ее стихи, написанные уже после ста лет. Это поразительно. Она освободилась от суетности, которая охватывает молодость. Говорит так: “Самое лучшее время мое — старость”. Ушла тщета.
— На 9 Мая будете в Москве?
— Боюсь, нет. Надо работать. А то пермский театр заказал памятник Дягилеву. Небольшой. В пять метров.
— А встретиться с однополчанами...
— Однажды встретился. Хотя никого не знал лично. Открывался в Одессе мой монумент “Золотое дитя”; и поскольку открытие приурочили ко Дню Победы, мэр города устроил прием, пригласив ветеранов — тех самых, из десанта в Констанцу (ведь и я с этого десанта начинал войну). Пришли ребята — в орденах от горла до пяток. Знаете, все эти клише, что вертятся вокруг меня — “Неизвестный воевал”, стихи Вознесенского, — большое ли значение имеют?
...Конечно, вы чисто выбриты,
И вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
За Родину наповал?
А здесь у меня екнуло сердце. Старики, явно старше меня, в поношенных мундирах... были просто голодны. Накинулись на пищу, и было видно, что они давно не ели таких вкусных вещей. Казалось, если бы не стеснение, то они рассовали бы бутерброды по карманам, чтобы отнести своим женам и внукам... Это был трагический вечер.
...“Я по свету немало хаживал”. Неизвестный покидает СССР; живет в Австрии, Швейцарии, Франции, Швеции, наконец, Америке.
— Вот и нет “ненавистного” Союза. Все рухнуло и, кажется, измельчается еще дальше.
— Развал советской империи я воспринял как личную трагедию. Потому что ни моего друга Мераба Мамардашвили, ни Данелия, ни Адамовича не мог считать “жителями иностранного государства”. Да, мне был чужд утопизм коммунистической идеологии, ведший к человеческим жертвам. Поэтому, когда возник простой черно-белый выбор “Ельцин или коммунисты”, — разбираться ни в чем и не нужно было. Выбор был сделан независимо от оценок личности и программ, которых я не знал: хотя бы не проливать кровь...
Но я не “павловская собака”, которая на клише, особенно политическое, делает стойку. Мне не надо внушать “преимущества одного строя перед другим”. История показывает, что были очень неплохие авторитарные образования (де Голль, Аденауэр) и безумно фальшивые парламентские республики; прелестные монархии и омерзительные демократии...
— И диктатуру можно оправдать?
— Я — бывший офицер. А это — навсегда. И я склонен отдавать предпочтение конкретным и волевым решениям. Это вошло в кровь. Это завязано с моей сутью монументалиста, ибо монументальная скульптура — дело имперское.
— Многие, живя в России, склонны видеть над головою откровенно слабую власть, но предпочитают критиковать ее как сильную...
— Люди не врубаются, в какое время они живут. Что такое распад империи? О таком распаде можно говорить раз в тысячелетие. Ведь после Октябрьской революции, несмотря на все перипетии, империя сохранилась и даже приумножилась. Нынче же случился взрыв, землетрясение, цунами — вот что это такое! И в ближайшее время сложно ожидать каких-либо трезвых оценок...
Столько слов об империи...
— “Меня уехали” из грандиозной страны. Поэтому та же Швейцария с ее вожделенным паспортом была мне узка. Америка своим размахом и ритмом была мне ближе.
— В России вы — классик. А там, куда вас “загоняют”?
— И там классик. Обо мне вышло шесть книг, и не в России, увы, они вышли. По счастью, разночтения искусствоведов не дают мне возможности попасть в бытовую систематику потребителя. А то иным только и важно узнать, кто ты — импрессионист или экспрессионист. Мертвечина. Я не мог адаптироваться, потому что сама форма существования в любой группе меня не устраивает. И таким образом я стал аутсайдером. Причем абсолютным. В этом есть недостаток, поскольку я одинок. И это бьет по карману, ведь все выставки устраиваются по принципу принадлежности к группировкам. Оп-арт? Поп-арт? Нет. Я — Эрнст Неизвестный. Такой группировки нет. Хотя подражателей — пруд пруди.
— Когда ученики подражают — это плохо?
— Ученики не подражать должны. Но через опыт учителя найти свой путь. А чем мои подражатели заняты? Если у меня есть пространственная дыра в скульптуре, они, глядя на это, начинают вертеть такую же. Но это лишь внешнее сходство. Все равно что свои стихи взять и просто так выстроить “лесенкой по-маяковски”. Мой друг Генри Мур писал, что “дыра дает ощущение трехмерности, даже если мы не обходим вокруг”. “А какая у вас идея?” — спросил он у меня. Я ответил в письме: “У меня дыра в скульптуре потому, что у меня дыра в теле. Нет ребер после ранения”. И он совершенно гениально определил: “Значит, я — классик, а вы — романтик”.
— Всегда сложное отношение к людям, которые “уехали-приехали”: Солженицын, Михаил Козаков... Чего вернулся? Не нужен там, значит?
— Насчет Козакова не знаю, но Солженицын был заласкан американским обществом. Конечно, и его критиковали; но он настоящий русский патриот с бесспорной, натуральной любовью к России. Ну а кроме того, есть люди, которым нужна среда общения...
— Вам не нужна?
— Нет. Хотя уехать в 50 лет, обладая определенными привычками и манерой общения, мне было, наверное, непросто. Ведь как общаются американцы? Ты даже не сидишь за столом, а все ходишь с салфеткой и рюмкой, и это сделано нарочно, чтобы ты общался с нужными людьми. Холодный бизнес, далекий весьма от нашего задушевного кухонного бдения. Так что некая ностальгия у меня есть. По запаху травы, по русской кухне, по русской речи...
— С женой говорите по-русски?
— С Анной? Так она же русская, хотя и наполовину армянка.
— Вам-то уж точно не приходило в голову вернуться?
— Почему же не приходило? И Ельцин об этом спрашивал. Будь я писатель — полгода здесь, полгода там, почему нет? Но я скульптор. Мне нужна материальная база. В Америке у меня свой литейный коллектив, старые связи со всеми промыслами... Налаживать их заново — непосильный труд. В Штатах у меня ушло на это 10—15 лет жизни.
— Но это единственная причина? А сама жизнь российская за окном не пугает?
— Я не такой социальный человек, чтобы “находиться за окном”, я — улитка, которая в себе.
— И только курсируете между домом и мастерской?..
Тут к нам подсаживается жена Эрнста Иосифовича — Анна. Как он вовремя потушил сигарету!
— Я не “курсирую”. Но живу в мастерской. У меня два дома: один в самом Нью-Йорке, другой — за городом, на острове, сам его построил как архитектор... Послушай, — обращается к жене, — это по твоей части: “бытовой Неизвестный”.
— Я отдыхать приехала, — улыбается она.
— Ну хоть послушай, что скажу. Итак, “бытовой Неизвестный” — это наказание для моих родственников. Если, например, Аня не взяла бы меня за локоть, чтобы мы куда-нибудь прошлись, то я никуда и не проходился бы. Годами я выходил из мастерской, серьезно думая прогуляться. Делал два шага до ресторанчика, выпивал и тут же бежал обратно. Нью-Йорк исключительно многообразен. Но у меня почему-то нет любопытства.
— А под “родственниками” ты разумеешь меня и таксу, которая тянет тебя на улицу? Какие “родственники”? Где они? — вопрошает Анна.
— Ну как же, — вмешиваюсь, — а на Урале? Там же раскопали архивы: сотни родственников-Неизвестновых...
— Но они не принимают участия в нью-йоркских прогулках...
— И слава богу.
— Любой мой выход из мастерской, — продолжает Эрнст Иосифович, — или чей-нибудь визит я воспринимаю как личную драму. Смотрю волком на приходящего, потому что меня отвлекают от меня самого. И если бы не было Ани, я бы... даже к врачу не ходил! — похвастал Эрнст Иосифович.
— Некому было бы ходить к врачу... — завершила Анна.
И ко мне:
— Но я вас предупреждаю: на 100% ничему не верьте. Ибо сегодня мы идем на “Дядю Ваню” к Олегу Табакову в МХТ. Это первый раз за 10 лет...
Сказала и удалилась по делам...
— В Англии давно в моде так называемые экологические похороны. Человека закапывают, на его месте сажают розовый куст или дуб. Вырастает лес. И никакой материальной памяти. Но часть вашего творчества попала на кладбище...
— Да, я ставил надгробия. И делал их знаковыми: Ландау, Ситковецкому, Светлову, Хрущеву... Многих я знал лично. То, о чем вы сказали, — идея красивая, и мне она ближе всего. Растворение в Мировом океане. Возможно, я хотел бы, чтобы меня похоронили так же. Или развеяли пепел по ветру. У меня нет решения. Это позже будет вписано в мое завещание. Но должен сказать одно: я никогда не шел ни на какие компромиссы. Всегда, как и в случае с Хрущевым, оговаривал, что буду делать так, как хочу. А иначе — отказ. Родственники Хрущева посещали меня, но ничего не советовали, помня о договоре. Выламывали руки официальные инстанции... И не только в переносном смысле. В последний год моего пребывания в Союзе меня подкарауливали на улице, сбивали с ног и ломали пальцы на руках.
— Им не нравилась черно-белая гамма?
— Что-то их настораживало. Ведь были выделены очень маленькие деньги: всего лишь на плиту с надписью... А семья решила сделать надгробие. Но официальщина того не хотела. Посохин и его заместитель начали буянить, протестовать, а монумент-то уже готов... Тогда я сказал им следующее: “Я понимаю, что, если бы “сверху” было запрещено, вы бы просто сказали “нет”, сославшись на “верха”. А поскольку вы, как шулера, все время тасуете карты, какие-то комиссии назначаете, значит, вам прямого приказа нет и вы просто перестраховываетесь. Потому что боитесь!” Они ответили: “Да”.
— Так и сказали?
— Это еще мягко рассказываю. Я поступил очень решительно, даже немножко шантажируя... Сказал им: “Если вы, ребята, царедворцы, так подите и спросите разрешения”. Они отвечают: “Мы бессильны. “Наверх” идти не можем”. Тогда Нина Петровна, жена Хрущева, взяла мой рисунок и сама пошла к Косыгину — второму человеку после Брежнева. Это заняло 10 минут. Косыгин посмотрел: “А что я буду решать? Семье нравится?” — “Нам очень нравится”. Он взял и подписал... все архитектурные начальники города плясали от радости, они были более счастливы, чем я...
— Как все странно. Человеку, с которым вас столько “связывало”, вы ставите памятник...
— Художник не может быть злее политика. При всей своей патологической некультурности Хрущев был очень умным человеком. Но, кстати, от президентов и руководителей я культуры не требовал. Интеллигенция все время пеняет: “Кафку он, конечно, не читал”. А я говорю: “Ну и хорошо, что он не читал, а то он за Кафкой другие занятия пропустит”. Глава государства должен делать простой выбор, без полутонов — да или нет. В день, когда Хрущева сняли, я набрал номер его помощника Лебедева и сказал: “Передайте Никите Сергеевичу, что я его действительно глубоко уважаю за то, что он выпустил миллионы людей из тюрем. Перед лицом этого подвига все наши с ним эстетические разногласия считаю несущественными”.
P.S.
— А теперь я чувствую, как энергия уходит внутрь. Меня оставила идея расширения.
— Но, по-моему, у вас в жизни расширения и не было никогда...
— Не было, потому что не давали. Но внутри всегда была экспансия. Когда был совсем ребенком, хотел Уральские горы превратить в скульптуры. Помню, как это представлял себе: в одной горе видел Кентавра, в другой — огромное лицо женщины, в руках которой растут живые ели...
В детстве столь естественно стремление к гигантизму, ведь каждый ребенок — Гулливер, равно как и художник.
— Так что же остается теперь?
— Жить!!!