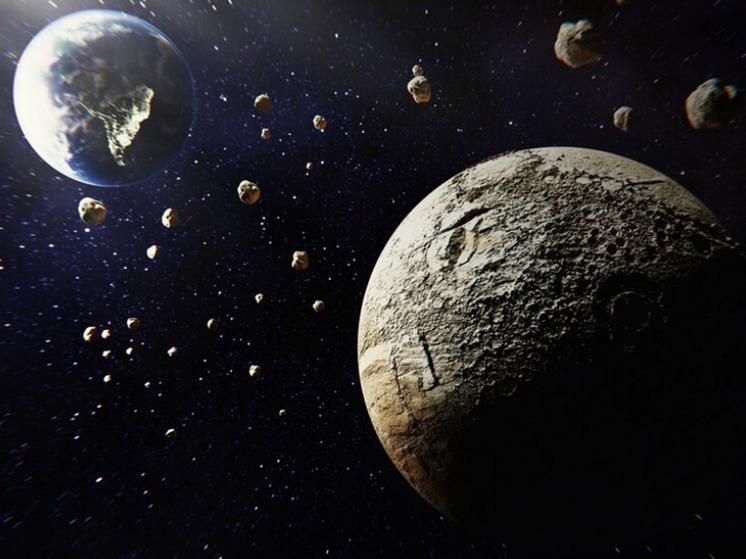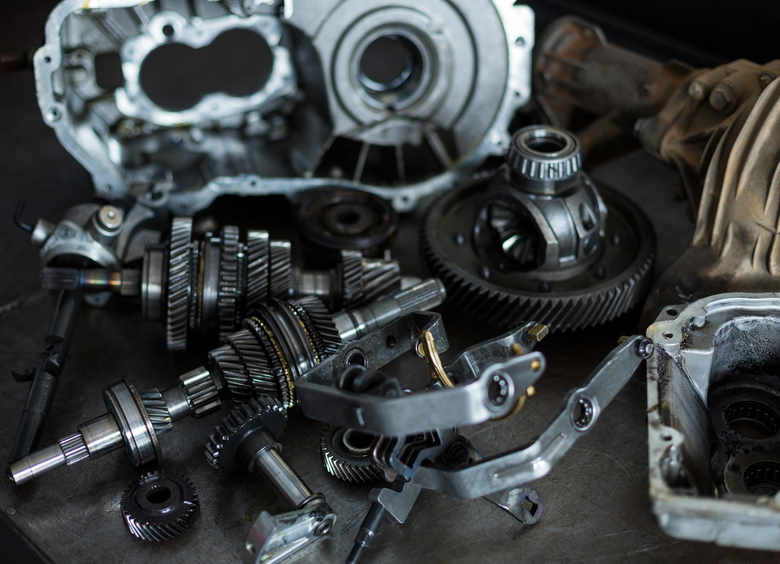“МК” первым публикует фрагменты книги одного из самых неординарных людей, определивших реалии современного мира.
В конце первой недели декабря, во время продолжительных зимних каникул, я отправился в сорокадневное путешествие, в ходе которого мне предстояло побывать в Амстердаме, откуда через Скандинавские страны добраться до России, после чего через Прагу и Мюнхен вернуться назад, в Оксфорд. Эта поездка была и до сих пор остается самой долгой в моей жизни.
В Амстердам я приехал вместе с моей подругой, художницей Эме Готье. Улицы города с множеством очаровательных магазинчиков были украшены светящимися рождественскими гирляндами. В знаменитом квартале красных фонарей проститутки совершенно легально выставляли себя напоказ в окнах своих заведений. Эме в шутку поинтересовалась, не хочется ли мне зайти в одно из этих мест, но я отказался.
Мы посетили самые известные соборы, посмотрели полотна Ван Гога в Муниципальном музее, Вермера и Рембрандта — в Рейксмюсеуме. Когда подошло время закрытия музея, нас попросили покинуть это прекрасное старинное здание. Я пошел в раздевалку, чтобы забрать наши пальто. В очереди передо мной стоял всего один человек. Когда он обернулся, я оказался лицом к лицу с Рудольфом Нуриевым. Мы перекинулись несколькими словами, и он пригласил меня пойти куда-нибудь выпить чашку чая. Я знал, что Эме с радостью приняла бы это приглашение, однако заметил у выхода красивого молодого человека с хмурым лицом, который нетерпеливо вышагивал взад-вперед, явно дожидаясь Нуриева, и отказался. Много лет спустя, когда я уже был губернатором, мы с Нуриевым оказались в одном отеле в Тайбэе, на Тайване. На этот раз в один из вечеров нам наконец удалось посидеть вместе за чашкой чая. Однако он не вспомнил нашей первой встречи.
В Амстердаме я простился с Эме, которая возвращалась домой, и отправился поездом в Копенгаген, Осло, а потом в Стокгольм. На границе между Норвегией и Швецией меня чуть не высадили.
На крошечном полустанке пограничники проверяли багаж у всех молодых людей, надеясь найти в нем наркотики. В моем чемодане они обнаружили запас таблеток от простуды и аллергии “Контак”, которые я вез своему другу в Москве. “Контак” был относительно новым препаратом и по каким-то причинам пока не входил в перечень разрешенных лекарств, утвержденный правительством Швеции. Я попытался объяснить, что это просто средство от простуды, свободно продающееся в американских аптеках и не обладающее какими-либо наркотическими свойствами. Таблетки все же конфисковали, но по крайней мере меня самого не выбросили за перевозку наркотиков в заснеженной пустыне, где я вполне мог бы превратиться в ледяную скульптуру и простоять так до самой весны.
...В канун Нового года я сел на поезд, следовавший до Москвы с остановкой в Ленинграде, на Финляндском вокзале. Это был тот самый маршрут, которым в 1917 году Ленин возвращался в Россию, чтобы возглавить революцию. Я узнал об этом из чудесной книги Эдмунда Уилсона “На Финляндский вокзал” (Тo the Finland Station). Когда мы, подъехав к российской границе, остановились на очередном отдаленном контрольно-пропускном пункте, я впервые в жизни увидел настоящего коммуниста — низенького толстого розовощекого пограничника. Видя, с какой подозрительностью он оглядывает мои чемоданы, я подумал, что его тоже интересуют наркотики. Однако пограничник спросил на ломаном английском: “Непристойная литература? Непристойная литература? У вас есть непристойная литература?” Я рассмеялся и открыл чемодан, в котором были недорогие, выпущенные издательством Pengiun книги Толстого, Достоевского и Тургенева. Пограничник был заметно разочарован. Думаю, ему очень хотелось обнаружить контрабанду, чтобы хоть как-то скрасить длинные унылые ночи на холодной границе.
Вагон советского поезда был разделен на просторные купе. Кроме того, в нем имелся огромный самовар с горячим чаем, который вместе с ломтиками черного хлеба разносила пожилая женщина.
В Ленинград мы прибыли незадолго до полуночи и начала нового десятилетия. Я вышел из вагона, чтобы немного прогуляться, но единственное, что мне удалось увидеть, — это милиционеров, сквозь метель тащивших куда-то подвыпивших гуляк. Этот город во всем его великолепии я увидел лишь через тридцать лет. К тому времени коммунистов уже не было, и городу вернули его первоначальное название — Санкт-Петербург.
Первое утро нового, 1970 года стало началом удивительных пяти дней, которые я провел в Москве. Я подготовился к поездке, захватив с собой путеводитель и подробную карту на английском, поскольку не умел читать на кириллице — русском алфавите.
Я поселился в гостинице “Националь”, прямо у Красной площади. В ней был гигантский вестибюль с высоким потолком, удобные номера и приличный ресторан с баром.
Единственным человеком, которого я знал в Москве, была Никки Алексис. Она родилась на Мартинике, в Вест-Индии и жила в Париже, потому что ее отец был дипломатом. В то время Никки училась в Университете имени Патриса Лумумбы. Этот университет носил имя конголезского лидера, убитого в 1961 году, по всей видимости, не без участия ЦРУ. Большинство его студентов были бедными людьми из бедных стран. Советы, вероятно, рассчитывали, что, дав им образование, получат сторонников, которые будут поддерживать их, вернувшись домой.
Однажды вечером я сел в автобус и поехал в Университет Лумумбы, чтобы пообедать вместе с Никки и ее подругами.
Возвращался в гостиницу я около полуночи. Кроме меня в автобусе ехал еще один человек. Его звали Олег Ракито, и по-английски он говорил лучше меня. Он засыпал меня вопросами, сказал, что работает на правительство, фактически признался, что ему поручено следить за мной, и предложил продолжить разговор за завтраком на следующее утро. Пока мы ели остывшую яичницу с ветчиной, он рассказал, что еженедельно читает Time и Newsweek и обожает британскую поп-звезду Тома Джонса, чьи записи ему привозили контрабандой. Если Олег и надеялся что-либо вытянуть из меня, поскольку я имел допуск к секретным документам в период работы на сенатора Фулбрайта, то остался ни с чем. Зато я благодаря ему получил некоторое представление о том, как нужна молодым людям за “железным занавесом” правдивая информация о внешнем мире. И я помнил об этом все годы, предшествовавшие моему приходу в Белый дом.
Олег был не единственным дружелюбно настроенным человеком, встреченным мною в России. Политика разрядки, проводимая президентом Никсоном, приносила ощутимые плоды. За несколько месяцев до моего приезда по российскому телевидению была показана высадка американцев на Луну. В России люди все еще продолжали обсуждать это событие; их, казалось, восхищало все американское. Они завидовали нашей свободе и считали, что все мы поголовно богачи. Думаю, что по сравнению с большинством из них так оно и было. Стоило мне спуститься в метро, как ко мне подходили незнакомые люди и с гордостью произносили: “Я говорю по-английски! Добро пожаловать в Москву!” Как-то вечером я ужинал за одним столиком с московским таксистом и его сестрой. Девушка выпила немного лишнего и решила остаться со мной. Брату пришлось силой уводить ее из гостиницы и заталкивать в машину. Я так и не понял, то ли он боялся, что из-за меня у нее могут возникнуть неприятности с КГБ, то ли просто посчитал меня недостойным своей сестры.
Мое самое интересное московское приключение началось со случайной встречи в гостиничном лифте. Когда я вошел в него, там уже находилось четыре человека. У одного из них был значок вирджинского “Лайонс клаб”. Из-за длинных волос, бороды, ботинок из грубой кожи и английской морской куртки этот человек, похоже, принял меня за иностранца и спросил, растягивая слова: “Ты откуда?” Когда я, улыбнувшись, ответил: “Из Арканзаса”, — он воскликнул: “Вот это да! А я решил, что ты из Дании или еще откуда-то вроде того!” Этого человека звали Чарли Дэниелс. Он приехал из Нортона, штат Вирджиния, родного города Фрэнсиса Гари Пауэрса, пилота самолета-разведчика “U-2”, сбитого и захваченного русскими в 1960 году. Дэниелса сопровождали Карл Макафи, адвокат из Нортона, помогавший организовать переговоры об освобождении Пауэрса, и Генри Форс, владелец птицеводческой фермы из штата Вашингтон, сын которого был сбит во Вьетнаме. Они проделали весь этот долгий путь в надежде хоть что-то узнать о судьбе сына фермера от находившихся в Москве представителей Северного Вьетнама. ...Все они прибыли в Москву, не имея никаких гарантий, что русские позволят им вести переговоры с вьетнамцами, а если и позволят, то они узнают что-то новое. Никто из них не говорил по-русски. Они спросили меня, не знаю ли я кого-нибудь, кто бы им помог. Никки Алексис изучала в Университете им. Патриса Лумумбы английский, французский и русский. Я познакомил их с нею, и они все вместе два дня ходили по инстанциям — устанавливали контакты с американским посольством, просили помощи у русских и наконец встретились с представителями Северного Вьетнама. Усилия, предпринятые г-ном Форсом и его друзьями по розыску его сына и еще нескольких пропавших без вести американских солдат, очевидно, произвели впечатление. Им пообещали изучить вопрос и сообщить о результатах. Несколько недель спустя Генри Форс узнал, что его сын погиб при падении самолета. Теперь он по крайней мере избавился от неопределенности.
В самом начале 1998 года я еще не подозревал, что он станет самым странным годом моего президентства, годом моего унижения и позора, политического противоборства на родине и триумфов за рубежом, годом, который, несмотря на все трудности, убедительно продемонстрировал здравый смысл и глубокую порядочность американского народа.
Четырнадцатого января в Восточном зале Белого дома мы с Алом Гором заявили о нашей поддержке “Билля о правах пациентов”, гарантировавшего американцам доступность базовых медицинских услуг, чего они до этого часто были лишены. В этот же день Хиллари в пятый раз была допрошена Кеном Старром. На этот раз ее спрашивали о том, каким образом секретные досье ФБР на республиканцев попали в Белый дом, о чем ей абсолютно ничего не было известно.
За три дня до этого я давал показания по делу Джонс. Я проработал возможные вопросы и ответы со своими адвокатами и считал, что был хорошо подготовлен, хотя в тот день неважно себя чувствовал и меня, естественно, совсем не радовала встреча с юристами.
После того как я принес присягу, адвокаты Института Рутерфорда попросили судью принять определение “сексуальных отношений”, которое они специально отыскали в одном из юридических документов. По сути речь в нем шла о более интимном, чем поцелуй, контакте, инициированном дающим показания лицом, с целью испытать сексуальное удовлетворение или возбуждение. При такой постановке вопроса учитывались лишь мои действия и психологическое состояние и совершенно не принимались в расчет действия другого лица. По словам адвокатов, это нужно было для того, чтобы избавить меня от нескромных вопросов.
Заседание длилось несколько часов, но лишь десять или пятнадцать минут из них были посвящены Поле Джонс. Остальное время мы обсуждали темы, не имеющие к Джонс никакого отношения. Мне было задано множество вопросов о Монике Левински.
...То, чем я занимался с Моникой Левински, было аморальным и глупым. Я глубоко стыдился этого и не хотел, чтобы это получило огласку. Давая показания, я пытался защитить свою семью и себя самого от своего глупого эгоизма. Я полагал, что запутанное определение “сексуальных отношений” даст мне возможность это сделать.
Я продолжал выполнять свою работу, скрывая происходящее от всех: от Хиллари и Челси, от собственной администрации и кабинета, от друзей в конгрессе, от представителей прессы и американского народа. Не считая собственного поведения, больше всего на свете я сожалею о том, что ввел в заблуждение всех этих людей. В какой только лжи меня не обвиняли, начиная с 1991 года, хотя в действительности я был предельно честен и в своей публичной жизни, и в финансовых делах, что подтвердили все проводившиеся расследования. Но на этот раз я действительно утаил от всех свои личные слабости. Я чувствовал себя ужасно неловко и хотел скрыть происходящее от жены и дочери. Мне не хотелось помогать Кену Старру в криминализации моей личной жизни, не хотелось, чтобы американский народ узнал о том, как я подвел его. Все это было настоящим кошмаром. У меня в полном смысле слова произошло раздвоение личности...
В день моего выступления с посланием в программе NBC “Сегодня” Хиллари заявила, что не верит выдвинутым против меня обвинениям и что все дело в “широкомасштабном заговоре”, организаторы которого пытаются уничтожить нас начиная с 1992 года. Старр выступил с возмущенным заявлением, в котором негодовал из-за того, что Хиллари ставит под сомнение мотивы его действий. Хотя моя жена была совершенно права в том, что касалось причин нападок на нас, я чувствовал невыносимый стыд за свое поведение, глядя, как она пытается меня защитить.
Утром в субботу, 15 августа, после ужасной бессонной ночи, когда до выступления перед большим жюри оставалось совсем немного времени, я разбудил Хиллари и рассказал ей всю правду о том, что произошло между мною и Моникой Левински. Она сжалась, словно от удара, — настолько ее оскорбило то, что я солгал ей в январе. Мне оставалось лишь просить прощения и говорить, что тогда у меня не было сил рассказывать об этом кому-нибудь, даже ей. Я сказал, что люблю ее, что не хотел причинять боль ей и Челси, что стыжусь своих поступков, но был вынужден держать все в тайне, потому что не мог нанести удар своей семье и ослабить свои позиции как президент. После того потока лжи и оскорблений, которым мы подвергались с начала моего президентства, мне не хотелось бы отступить под напором истерии, вызванной моими свидетельскими показаниями в январе, и лишиться поста президента. Я и сам до конца не понимал, как мог поступить так аморально и глупо. Чтобы осознать это, мне понадобились долгие месяцы, в течение которых мы старались восстановить наши отношения.
Мне предстоял разговор и с Челси. В определенном смысле он был еще более трудным. Рано или поздно каждый ребенок начинает понимать, что его родители не идеальны, но моя ситуация выходила далеко за привычные рамки. Я всегда считал себя хорошим отцом. Последние годы учебы в средней школе и первый год в университете и без того были омрачены для Челси постоянными нападками на ее родителей. Я боялся не только разрушить свой брак, но и потерять любовь и уважение дочери.
В понедельник, уделив подготовке максимально возможное время, я спустился в так называемую Комнату географических карт, где мне предстояло на протяжении четырех часов отвечать на вопросы.
Большое жюри следило за допросом по специально выделенному кабельному телеканалу, оставаясь в помещении суда, а Старр и его следователи из кожи вон лезли, стараясь превратить видеозапись в некое подобие домашнего порно. Их вопросы были сформулированы таким образом, чтобы унизить меня, вызвать ко мне отвращение, заставить Конгресс и американский народ потребовать моей отставки, а затем предъявить мне обвинение и предать меня суду. По меткому замечанию Сэмюэля Джонсона, ничто так не активизирует работу ума, как перспектива личного краха. В моем же случае на карте стояло гораздо больше, чем судьба одного человека.
После предварительных замечаний я попросил предоставить мне возможность сделать краткое заявление. Я признался, что “несколько раз в 1996 году и один раз в 1997 году” совершал неэтичные поступки, включающие неподобающие интимные контакты с Моникой Левински; что подобное поведение, хотя и является аморальным, в моем представлении не подходит под то определение “сексуальных отношений”, которое было принято судьей Райт по просьбе адвоката Джонс; что я несу полную ответственность за свои действия и готов предельно открыто отвечать на вопросы независимого прокурора относительно законности моих действий, но отказываюсь обсуждать детали произошедшего.
Я признал, что действительно ввел в заблуждение всех, кто расспрашивал меня об этой истории, после того как она всплыла. И я вновь и вновь повторял, что никогда никого не просил лгать. В конечном итоге четырехлетнее расследование, на которое было потрачено 40 миллионов долларов, свелось к анализу определения понятия “сексуальные отношения”.
На следующий день мы отправились в отпуск на остров Мартас-Виньярд. Раньше я буквально считал дни до того момента, когда мы сможем поехать куда-нибудь всей семьей; на этот раз, хоть мы и нуждались в отдыхе, я предпочел бы работать круглые сутки. Когда мы следовали через Южную лужайку к вертолету — Челси шла между нами, а Бадди трусил рядом со мной, — фотографы сделали снимки, на которых видна та боль, которую я причинил своим близким. Стоило им скрыться из виду, как моя жена и дочь практически перестали со мной разговаривать.
Первые два дня я занимался только тем, что просил прощения и планировал удары по “Аль-Каиде”. Ночью Хиллари уходила в спальню, а я устраивался на кушетке.
В мой день рождения генерал Дон Керрик — сотрудник аппарата Сэнди Бергера — прилетел на Мартас-Виньярд, чтобы ознакомить меня со списком объектов, рекомендованных ЦРУ и Объединенным комитетом начальников штабов для нанесения ударов. Это были тренировочные лагеря “Аль-Каиды” в Афганистане и две цели в Судане: кожевенный завод, принадлежавший бен Ладену, и химической завод, который, по данным ЦРУ, использовался для производства или хранения компонентов, необходимых при производстве нервно-паралитического газа VX. Я исключил из списка целей кожевенный завод, так как он не имел военного значения, а мне хотелось уменьшить потери среди гражданского населения. Удары по лагерям должны были наноситься в то время, когда, по сведениям разведки, бен Ладен собирался встретиться там с руководителями своей террористической сети.
В 3 часа ночи я дал Сэнди Бергеру окончательный приказ начать операцию, и эсминцы ВМС США, находившиеся в северной части Аравийского моря, выпустили крылатые ракеты по целям в Афганистане.
Американскому народу пришлось одновременно осмысливать сообщения и о ракетных ударах, и о моих показаниях перед большим жюри. Журнал Newsweek написал, что реакция публики на мои показания и телевизионное обращение была “спокойной и взвешенной”. Рейтинг одобрения моей работы как президента составил 62 процента; 73 процента американцев поддержали решение о ракетных ударах. Большинство людей считало, что в личной жизни я вел себя нечестно, но в сфере общественной жизни и политики мне можно доверять. И, напротив, по словам Newsweek, “первая реакция экспертов была почти истерической”. Они нанесли мне ощутимые удары. Да, я согласен, что заслуживал порки, но, в конце концов, я и получил ее — дома, в семье, там, где и должен был ее получить.
Мне оставалось лишь надеяться на то, что давление прессы не заставит демократов потребовать моей отставки и я смогу загладить свою вину перед моей семьей, моим аппаратом, кабинетом и людьми, которые верили в меня все эти годы, когда я подвергался непрекращающимся нападкам.
Сразу после возвращения с Мартас-Виньярд мы с Хиллари совершили короткий визит в Россию и Северную Ирландию вместе с Мадлен Олбрайт, Биллом Дейли, Биллом Ричардсоном и делегацией конгрессменов от обеих партий. Посол США в России Джим Коллинз пригласил группу думских лидеров в свою резиденцию в Спасо-хаусе. Я пытался убедить их, что ни одна страна не может позволить себе нарушать законы глобальной экономики и что, если они хотят получать зарубежные займы и инвестиции, России нужно начать собирать налоги, перестать печатать деньги, чтобы оплачивать свою бюджетные расходы, помочь попавшим в сложное положение банкам, покончить с капитализмом “для своих” и возвращать свои долги. У меня создалось впечатление, что мои “проповеди” мало кого убедили.
Моя пятнадцатая встреча с Борисом Ельциным была довольно успешной, учитывая проблемы, с которыми он столкнулся. Коммунисты и ультранационалисты блокировали его законодательные предложения в Думе. Он пытался создать более эффективную систему сбора налогов при помощи президентских указов, но ничего не мог поделать с Центральным банком, который печатал слишком много денег, что только усиливало бегство капитала из страны, мешало рублю стать стабильной валютой и отпугивало западных кредиторов и инвесторов. Единственное, что я мог тогда для него сделать, — это подбодрить его и сказать, что оставшаяся часть кредита МВФ будет предоставлена сразу же, как только сможет принести эффект. Если бы мы предоставили ее немедленно, она исчезла бы так же быстро, как и первый транш.
Десятого сентября я пригласил членов кабинета министров в Белый дом и извинился перед ними. Многие из них не знали, что сказать. Они верили в то, что мы делали, и были благодарны мне за предложенные им высокие посты, но большинство из них считало, что я вел себя эгоистично и глупо и восемь месяцев водил их за нос. Первой высказалась Мадлен Олбрайт, которая сказала, что я поступил дурно и разочаровал ее, но в данный момент единственным выходом для нас будет вновь вернуться к работе. Донна Шалала высказалась резче, заявив, что для лидеров важно быть порядочными людьми, а не только проводить правильную политику. Мои давние друзья Джеймс Ли Уитт и Родни Слейтер говорили о важности искупления совершенного греха и цитировали Священное Писание. Брюс Бэббит, который был католиком, говорил о значении исповеди. Кэрол Браунер заявила, что ей пришлось говорить со своим сыном на темы, которые она никогда не собиралась с ним обсуждать.
Честные и очень разные мнения членов моего кабинета помогли мне понять, о чем в то время говорили люди по всей Америке. По мере приближения слушаний по импичменту я получал много писем и от друзей, и от незнакомых мне людей. Некоторые из них говорили мне трогательные слова поддержки и ободрения, другие писали о собственных промахах и о том, как они их исправляли, многие возмущались действиями Старра. Были и такие, кто, резко осуждая меня, сообщал о своем глубоком разочаровании; немало людей выражали все эти эмоции одновременно. Чтение писем помогло мне справиться с моими собственными переживаниями и вспомнить о том, что если я хочу получить прощение, то и сам должен уметь прощать.
Через несколько дней мы с Хиллари принимали на ежегодном завтраке в Белом доме американских религиозных лидеров. Обычно мы обсуждали с ними волнующие нас общественные проблемы, но на этот раз я попросил их помолиться за меня, поскольку мне предстояли тяжкие испытания:
Три пастора — Фил Уогаман, наш священник в методистской церкви “Фаундри”, мой друг Тони Камполо и Гордон Макдональд, автор нескольких прочитанных мною религиозных книг, — согласились наставлять меня по крайней мере раз в месяц. Обычно они приезжали в Белый дом все вместе, но иногда и порознь. Мы вместе молились, читали Священное Писание и обсуждали такие вещи, о которых я раньше никогда ни с кем не разговаривал. Преподобный Билл Хайбелс из Чикаго также продолжал регулярно приезжать в Белый дом и задавать мне вопросы с целью убедиться в моем “духовном здоровье”.
Мы с Хиллари начали серьезно консультироваться у психолога — специалиста по семейным отношениям. Мы посещали его раз в неделю почти целый год. Впервые в своей жизни я открыто говорил о своих чувствах и переживаниях, высказывал свое мнение о жизни, любви и природе человеческих взаимоотношений. Не все, что я узнал о самом себе и своем прошлом, меня обрадовало, и мне было больно признать, что некоторые события моего детства и последующей жизни сделали для меня труднодостижимым многое из того, что другим людям давалось совершенно естественно.
Я также осознал, что усталость, гнев и чувство одиночества делали меня более уязвимым, в результате чего я мог вести себя эгоистично и совершать непоправимые ошибки, за которые мне потом бывало стыдно. То, что происходило сейчас, как раз и было последним звеном в цепи множества ошибок, совершенных из-за того, что я вел как бы две “параллельные” жизни — внутреннюю и внешнюю, пытаясь отделить кипевшие в моей душе гнев и отчаяние от моей публичной жизни, которую я любил и которая была вполне успешной. Во время перерывов в работе правительства я вел борьбу сразу на двух направлениях: дискутировал с конгрессом по вопросам будущего нашей страны и в то же время пытался сдерживать искушавших меня “демонов”. Я одержал победу в публичной борьбе и проиграл борьбу с самим собой, в результате чего причинил вред не только своей семье и своей администрации, но и нанес ущерб институту президентства и всему американскому народу. Не имело значения, насколько тяжело мне было и какому стрессу я подвергался в то время, — я должен был проявить силу духа и найти более достойный выход из этой ситуации.
Я не находил оправданий тому, что сделал, но попытка понять, почему я это сделал, по крайней мере давала мне шанс наконец объединить две мои “параллельные” жизни.
В ходе долгих бесед у консультанта и во время их последующих обсуждений нам с Хиллари удалось также лучше узнать друг друга и открыть друг в друге новые стороны помимо преданности работе и идеям, которые мы давно разделяли, а также любви к нашей дочери. Я всегда очень любил Хиллари, но не всегда мог это выразить. Я был благодарен ей за то, что она согласилась посещать психолога. Мы все еще оставались лучшими друзьями, и я надеялся, что нам удастся сохранить наш брак.
В это время я все еще спал на кушетке в небольшой гостиной, смежной с нашей спальней. Это длилось два месяца, а может, и больше. Я много читал, думал и работал, да и кушетка эта была довольно удобной, но я надеялся, что мне не придется спать отдельно всю оставшуюся жизнь.
...После испытаний, связанных с импичментом, люди часто спрашивали меня, как я не сошел с ума, пройдя через все это, и сохранил способность выполнять свою работу. Я бы не сумел этого добиться без поддержки сотрудников Белого дома и моего кабинета, включая и тех, кто был сердит на меня и возмущен моими поступками.
Любовь и поддержка друзей и незнакомых людей очень помогли мне. Те, кто писал мне письма или просто говорил добрые слова на встречах со мной, даже не догадываются, как много они для меня сделали.
Но самым главным, что помогло мне выжить, была поддержка близких, в частности братьев Хиллари и моего собственного брата. Роджер шутил, что наконец-то дождался того часа, когда проблемы возникли и у меня. Хью прилетал из Майами каждую неделю, мы играли в игру “Эрудит”, говорили о спорте, и он всячески старался меня развеселить. Тони прилетал на наши семейные матчи по карточной игре пинокль. Моя теща и Дик Келли также продолжали замечательно ко мне относиться.
Несмотря ни на что, наша дочь продолжала меня любить и желала мне победы. Я всегда любил ее смех, и, несмотря на весь этот абсурд, мы вновь научились смеяться: нам помогли вернуть близость ежедневные совместные консультации у психолога и наша общая решимость бороться с заговором правых. Я чуть ли не испытывал благодарность к своим мучителям: похоже, именно из-за них Хиллари вновь стала хорошо ко мне относиться. Я даже перестал спать на кушетке...