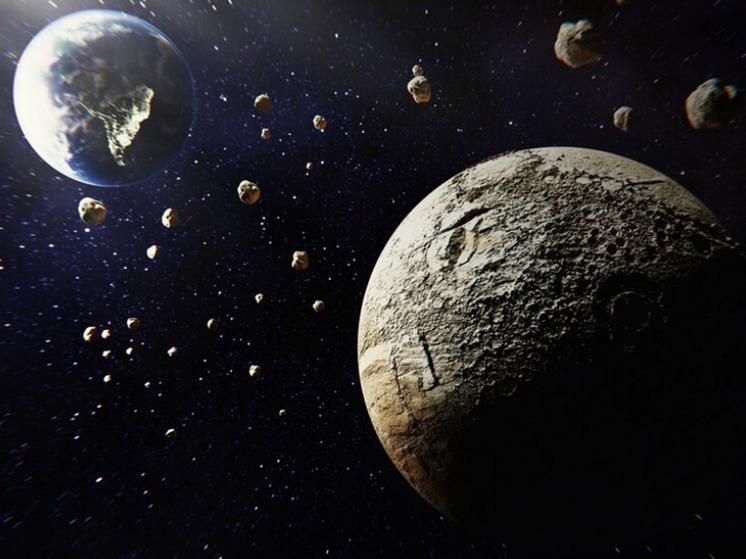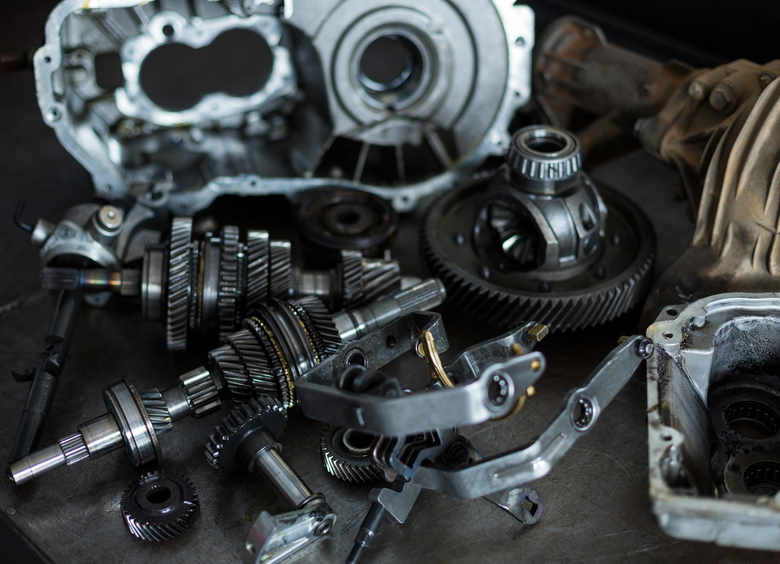Владимир Сорокин — фигура по меньшей мере одиозная. Мода на его книги — “Голубое сало” и иже с ними — сошла, “Идущие вместе” понемногу успокоились, опера “Дети Розенталя” по его либретто тихо-мирно идет в Большом, несмотря на возмущение масс. Тем временем Сорокин не дремлет. Количество матерной лексики теперь резко уменьшилось, и в каждой новой книге можно найти какую-нибудь идею. Его недавно появившаяся “Трилогия” представляет собой мытарства людей, которых позвал к себе лед упавшего в Сибири метеорита. Новая же книга Владимира Сорокина — “День опричника” — о переродившейся России. Писатель согласился опубликовать в “МК” первую главу и побеседовать с нашим корреспондентом.
“ДЕНЬ ОПРИЧНИКА” (глава из книги)
Сон все тот же: иду по полю бескрайнему, русскому, за горизонт уходящему, вижу белого коня впереди, иду к нему, чую, что конь этот особый, всем коням конь, красавец, ведун, быстроног, поспешаю, а догнать не могу, убыстряю шаг, кричу, зову, понимаю вдруг, что в том коне — вся жизнь, вся судьба моя, вся удача, что нужен он мне, как воздух, бегу, бегу, бегу за ним, а он все так же неспешно удаляется, ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит…
Мое мобило будит меня:
Удар кнута — вскрик.
Снова удар — стон.
Третий удар — хрип.
Поярок записал это в Тайном приказе, когда пытали дальневосточного воеводу. Эта музыка разбудит и мертвого.
— Комяга слушает, — прикладываю холодное мобило к сонно-теплому уху.
— Здравы будьте, Андрей Данилович. Коростылев тревожит, — оживает голос старого дьяка из Посольского приказа, и сразу же возле мобилы в воздухе возникает усато-озабоченное рыло его.
— Чего надо?
— Осмелюсь вам напомнить: сегодня ввечеру прием албанского посла. Требуется обстояние дюжины.
— Знаю, — недовольно бормочу, хотя по-честному — забыл.
— Простите за беспокойство. Служба.
Кладу мобило на тумбу. Какого рожна посольский дьяк напоминает мне про обстояние? Ах, да… теперь же посольские правят обряд омовения рук. Забыл… Не открывая глаз, свешиваю ноги с постели, встряхиваю голову: тяжела после вчерашнего. Нащупываю колокольчик, трясу. Слышно, как за стеной Федька спрыгивает с лежанки, суетится, звякает посудой. Сижу, опустив не готовую проснуться голову: вчера опять пришлось принять по полной, хотя дал зарок пить и нюхать только со своими, клал 99 поклонов покаянных в Успенском, молился святому Вонифатию. Псу под хвост! Что делать, ежели окольничьему Кириллу Ивановичу я не могу отказать. Он умный. И горазд на мудрые советы. А я, в отличие от Поярка и Сиволая, ценю в людях умное начало. Слушать премудрые речи Кирилла Ивановича я могу бесконечно, а он без кокоши неразговорчив…
Входит Федька:
— Здравы будьте, Андрей Данилович.
Открываю глаза.
Федька стоит с подносом. Рожа его, как всегда с утра, помята и нелепа. На подносе традиционное для похмельного утра: стакан белого квасу, рюмка водки, полстакана капустного рассола. Выпиваю рассол. Щиплет в носу и сводит скулы. Выдохнув, опрокидываю в себя водку. Подступают слезы, размывая Федькину рожу. Вспоминается почти все — кто я, где и зачем. Медлю, осторожно вдыхая. Запиваю водку квасом. Проходит минута Неподвижности Великой. Отрыгиваю громко, со стоном нутряным. Отираю слезы. И теперь вспоминаю уже все.
Федька убирает поднос, опустившись на колено, подставляет руку. Опираюсь, встаю. От Федьки утром пахнет хуже, чем вечером. Это — правда его тела, и от нее никуда не денешься. Розги тут не помогают. Потягиваясь и кряхтя, иду к иконостасу, затепливаю лампадку, опускаюсь на колени. Читаю молитвы утренние, кладу поклоны. Федька стоит позади, позевывает и крестится.
Помолившись, встаю, опираясь на Федьку. Иду в ванную. Омываю лицо приготовленной колодезной водою с плавающими льдинками. Гляжусь в зеркало. Лицо опухло слегка, воскрылия носа в синих прожилках, волосы всклокочены. На висках первая седина. Рановато для моего возраста. Но — служба наша такая, ничего не попишешь. Тяжкое дело государственное…
Справив большую и малую нужду, забираюсь в джакузи, включаю программу, откидываю голову на теплый, удобный подголовник. Смотрю в потолок на роспись: девки, собирающие вишню в саду. Это успокаивает. Гляжу на девичьи ноги, на корзины со спелою вишней. Вода заполняет ванну, вспенивается воздухом, бурлит вокруг моего тела. Водка внутри, пена снаружи постепенно приводят меня в чувство. Через четверть часа бурление прекращается. Лежу еще немного. Нажимаю кнопку. Входит Федька с простыней и халатом. Помогает мне вылезти из джакузи, оборачивает простыней, кутает в халат. Прохожу в столовую. Там Танюшка уже сервирует завтрак. На стене поодаль — пузырь вестевой. Даю голосом команду:
— Новости!
Вспыхивает пузырь, переливается голубо-бело-красным флагом Родины с золотым орлом двуглавым, звенит колоколами Ивана Великого. Отхлебнув чаю с малиной, просматриваю новости: на Северо-Кавказском участке Южной Стены опять воровство приказных и земских, дальневосточная Труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев, китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске, суд над менялами из Уральского казначейства продолжается, татары строят к Юбилею государя умный дворец, мозгляки из Лекарской академии завершают работы над геном старения, Муромские гусляры дадут два концерта в Белокаменной, граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену, в январе в Свято-Петрограде на Сенной пороть не будут, рубль к юаню укрепился еще на полкопейки.
Танюшка подает сырники, пареную репу в меду, кисель. В отличие от Федьки, Танюшка благолепна и благоуханна. Юбки ее приятно шелестят.
Крепкий чай и клюквенный кисель окончательно возвращают меня к жизни. Спасительный пот прошибает. Танюшка протягивает мне ей же расшитое полотенце. Я отираю лицо свое, встаю из-за стола, крещусь, благодарю Господа за пищу.
Пора приступать к делам.
Пришлый цирюльник уже ждет в платяной. Следую туда. Молчаливый, приземистый Самсон с поклоном усаживает меня перед зеркалами, массирует лицо, натирает шею лавандовым маслом. Руки у него, как у всех цирюльников, малоприятные. Но я принципиально не согласен с циником Мандельштамом — власть вовсе не “отвратительна, как руки брадобрея”. Власть прелестна и притягательна, как лоно нерожавшей золотошвейки. А руки брадобрея… что поделаешь — бабам наших бород брить не положено. Самсон пускает мне на щеки пену из оранжевого баллончика “Чингисхан”, предельно аккуратно размазывает, не касаясь моей узкой и красивой бороды, берется за бритву, размашисто правит ее на ремне, прицеливается, поджав нижнюю губу, и начинает ровно и плавно снимать пену с моего лица. Смотрю на себя. Щеки мои уже не очень свежи. За эти два года я похудел на полпуда. Синяки под глазами стали нормой. Все мы хронически недосыпаем. Прошлая ночь — не исключение.
Сменив бритву на электрическую машинку, Самсон ловко поправляет секирообразный островок моей бороды.
Я сурово подмигиваю себе: “С добрым утром, Комяга!”
Малоприятные руки кладут на лицо горячую салфетку, пропитанную мятой. Самсон тщательно вытирает мое лицо, румянит щеки, завивает чуб, лакирует, щедро сыплет на него золотую пудру, вдевает в правое ухо увесистую золотую серьгу — колокольчик без языка. Такие серьги носят только наши. И никакая земская, приказная, стрелецкая, думская или столбовая сволочь даже на маскарад рождественский не посмеет надеть такой колокольчик.
Самсон опрыскивает мою голову “Диким яблоком”, молча кланяется и выходит. Он сделал свое цирюльное дело. Тут же возникает Федька. Морда его по-прежнему помята, но он уже успел сменить рубаху, почистить зубы и вымыть руки. Он готов к процессу моего облачения. Прикладываю ладонь к замку платяного шкапа. Замок пищит, подмигивает красным огоньком, дубовая дверь отъезжает в сторону. Каждое утро вижу я все свои восемнадцать платьев. Вид их бодрит. Сегодня обычный будний день. Стало быть — рабочая одежа.
— Деловое, — говорю я Федьке.
Он вынимает платье из шкапа, начинает одевать меня: белое, шитое крестами исподнее, красная рубаха с косым воротом, парчовая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями, бархатные порты, сафьяновые красные сапоги, кованые медью. Поверх парчовой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватою кафтан черного грубого сукна.
Глянув на себя в зеркало, закрываю шкап.
Иду в прихожую, гляжу на часы: 8.03. Время терпит. В прихожей меня уже ждут провожатые: нянька с иконою Георгия Победоносца, Федька с шапкой и поясом. Надеваю шапку черного бархата с соболиной оторочкой, даю себя подпоясать широким кожаным ремнем. На ремне — слева кинжал в медных ножнах, справа “Реброфф” в деревянной кобуре. Нянька между тем крестит меня:
— Андрюшенька, храни тебя Пресвятая Богородица, Святой Никола и все оптинские старцы!
Острый подбородок ее трясется, голубенькие слезящиеся глазки смотрят с умилением. Я крещусь, целую икону Святого Георгия. Нянька сует мне в карман молитву “Живый в помощи Вышняго”, вышитую матушками Новодевичьего монастыря золотом на черной ленте. Без этой молитвы я на дела не езжу.
— Победу на супротивныя… — бормочет Федька, крестясь.
Из черной горницы выглядывает Анастасия: красно-белый сарафан, русая коса на правом плече, изумрудные глаза. По заалевшим ланитам видать: волнуется. Опустила очи долу, поклонилась стремительно, тряхнув высокой грудью, скрылась за косяком дубовым. А у меня сразу всплеск сердечный от поклона девичьего: позапрошлая ночь темнотой парною распахнулась, стоном сладким в ушах ожила, теплым телом девичьим прижалась, зашептала жарко, кровушкой по жилам побежала.
Но — дело поперву.
А дел сегодня — невпроворот. И еще этот посол албанский…
Выхожу в сенцы. Там уж вся челядь выстроилась: скотницы, кухарка, повар, дворник, псарь, сторож, ключница:
— Здравы будьте, Андрей Данилович!
Кланяются в пояс. Киваю им, проходя. Скрипят половицы. Отворяют дверь кованую. Выхожу на двор. День солнечный выдался, с морозцем. Снега за ночь подсыпало — на елях, на заборе, на башенке сторожевой. Хорошо, когда снег! Он срам земной прикрывает. И душа чище от него делается.
Щурясь на солнце, оглядываю двор: амбар, сенник, хлев, конюшня — все справное, добротное. Рвется кобель лохматый на цепи, повизгивают борзые в псарне за домом, кукарекает петух в хлеву. Двор выметен чисто, сугробы аккуратные, как куличи пасхальные. У ворот стоит мой “мерин” — алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на солнце кабиною прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кланяется:
— Андрей Данилович, утвердите!
Показывает мне голову собачью на нынешний день: косматый волкодав, глаза закатились, язык инеем тронут, зубы желтые, сильные. Подходит.
— Валяй!
Тимоха ловко пристегивает голову к бамперу “мерина”, метлу — к багажнику. Прикладываю ладонь к замку “мерина”, крыша прозрачная вверх всплывает. Усаживаюсь на полулежащее сиденье черной кожи. Пристегиваюсь. Завожу мотор. Тесовые ворота передо мной растворяются. Выезжаю, несусь по узкой прямой дороге, окруженной старым заснеженным ельником. Красота! Хорошее место. Вижу в зеркало свою усадьбу, удаляющуюся. Добрый дом, с душою. Всего семь месяцев живу в нем, а чувство такое, что родился и вырос тут. Раньше имение принадлежало товарищу менялы из Казначейского приказа Горохову Степану Игнатьевичу. Когда он во время Великой Чистки Казначейской впал в немилость и оголился, мы его и прибрали к рукам. В то лето горячее много казначейских голов полетело. Боброва с пятью приспешниками в клетке железной по Москве возили, потом секли батогами и обезглавили на Лобном месте. Половину казначейских выслали из Москвы за Урал. Работы много было… Горохова тогда, как и положено, сперва мордой по навозу вывозили, потом рот ассигнациями набили, зашили, в жопу свечку воткнули да на воротах усадьбы повесили. Семью трогать было не велено. А имение мне отписали. Справедлив государь наш. И слава Богу.
— Как давно и как долго писалась эта книга?
— Это писалось зимой, сначала довольно быстро, но я ни одну книгу так долго не шлифовал.
— Наверное, это было связано с тем, что вы использовали древнерусский язык? Вам, наверное, пришлось изучать какую-то древнюю литературу?
— Я этим интересовался всегда. В каждом из нас есть этот язык, эти корни. Но надо уметь дать ему свободу. Надо уметь отождествляться со своими персонажами. Чтобы этот язык ожил, мне понадобилось на несколько месяцев стать Комягой.
— То есть можно сказать, что на период написания книги ваш герой — это всегда вы, можно поставить знак “равно”?
— У меня так всегда, иначе не получится образа. В жизни, конечно, я не Комяга, у нас с ним разные этические и эстетические принципы.
— В чем был замысел, так сказать, идея произведения?
— Страшный вопрос! Если бы автор знал, ради чего он пишет, он бы не писал. Это некая свободная фантазия на тему России. Чем уникальна наша жизнь в России? У каждого из нас есть один метафизический вопрос: что нас ждет? И у каждого, черт возьми, есть на это ответ! Мы только и занимаемся, что гадаем по любому поводу на тему будущего России. Это говорит о том, что оно по-настоящему непредсказуемо. В этом уникальность нашей страны. Моя книга — одно из подобных гаданий. Я дал себе возможность смоделировать некую ситуацию: если Россия решит построить Великую Стену и отгородиться от западного мира, погрузившись в себя.
— Такая древнерусская Москва, отгородившаяся от Запада, одновременно помолодевшая и постаревшая, с челядью, с конюшнями, амбарами, квасом и с джакузи, автомобилями, мобильными телефонами, — это ваша идеальная Москва?
— Моя идеальная Москва — это Москва, по которой я бегал мальчиком, когда мне было лет 12. Не может быть ничего идеального. Надо принимать вещи и города такими, какие они есть. В конце концов, это художественное произведение. Но теоретически такая Москва запросто может существовать.
— Хотелось бы поговорить об опричнине. Вы пишете, что не люди выбирают опричнину, а опричнина выбирает людей. Можно сказать, что описываемый вами институт опричнины — это современная ФСБ?
— Вы слишком узко смотрите на это понятие. Опричнина больше ФСБ и КГБ. Это старое, мощное, очень русское явление. С XVI века оно, несмотря на то что официально было при Иване Грозном всего в течение десяти лет, сильно повлияло на русское сознание и историю. Все наши карательные органы, да и во многом весь наш институт власти — результат влияния опричнины. Иван Грозный разделил общество на народ и опричных, сделал государство в государстве. Это показало гражданам государства Российского, что они обладают не всеми правами, а все права у опричных. Чтобы быть в безопасности, надо стать опричным, отделиться от народа. Чем у нас на протяжении этих четырех веков чиновники и занимаются. Мне кажется, опричнину, ее пагубность, по-настоящему еще не рассмотрели, не оценили.
— Писатель Владимир Сорокин несколько изменился за последнее время. После скандальной “Нормы” и “Голубого сала” он стал писать немного по-другому. С чем это связано?
— Мне недавно исполнился 51. Знаете, я ведь не вижу себя со стороны, правда? Что-то происходит во мне, но я не могу сформулировать, что именно. Я старался не повторяться, в каждой книге как-то развиваться, каждый раз изобретать маленькую атомную бомбочку. Я развиваюсь, книги меняются, бомбочки взрываются.
— Один из самых внешних признаков этого изменения — количество нецензурной лексики в произведении. Сейчас ее гораздо меньше.
— Я никогда не держался за мат как за нечто самоценное. Он для меня лишь часть родной речи. Его должно быть, как перца, не больше и не меньше. Только тогда он по-настоящему полезен и в жизни, и в литературе.