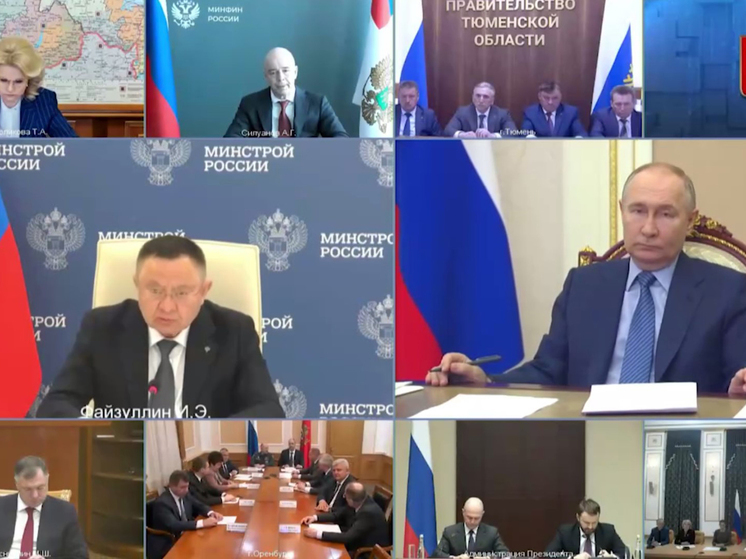Говорят, что с ее уходом в 1993 году закрылась последняя страница Серебряного века. Так вышло, что имя Анастасии Цветаевой невольно оставалось в тени славы старшей сестры — неповторимой Марины. Писатель, поэт, переводчик, художник — вклад Анастасии Цветаевой в русскую культуру до сих пор не оценен по достоинству. Ее “Воспоминания” выдержали уже 6 переизданий. На поздних фотографиях Анастасия Ивановна выглядит мирной бабушкой с детской улыбкой Алисы из Страны чудес. Но за этой улыбкой скрывалась та непостижимая загадка Цветаевых, о которой знали только самые близкие им люди...
“МК” встретился с Ольгой Трухачевой — внучкой Анастасии Цветаевой.
Сумасшедший дом
Она по-детски хлюпает носом и глотает слезы. Только что улыбалась своим воспоминаниям, а теперь чуть не плачет. С прошлым всегда так. Оно смотрит на тебя с черно-белых фотографий в старом альбоме.
— Меня она называла “золотоволосым, золотоглазым котом”, — говорит Ольга. — А я ее — бабушкой Асенькой. В 5 лет я почему-то стала говорить “бабенька, папенька, маменька” и всех на “вы”, а бабушка выбивала из меня, как она говорила, это мещанство. Но чаще мы с сестрой Ритой звали ее “Баб”. В мужском роде: у бабушки был мужской характер. Мы писали ей: “Дорогой Баб! Как у тебя дела? Где ты был? Что видел?” Когда родился мой старший сын Андрей, а я точно знала, что будет мальчик, бабушка прислала телеграмму: “Ура сын Андрей Олиному заказу целую Баб-Прабаб”.
— В детстве мне казалось: я была всегда. “А вот мы с Бабом, — начинала Рита и добавляла, чтобы поиздеваться, — когда тебя еще не было на свете…” Я топала ногами: “Как это не было?! Я была, и Баб тоже был всегда”. Когда меня наказывали родители, я кричала: “Папа меня не шушается, мама меня не шушается, кот Рыжик меня не шушается, уеду к бабушке в Москву!”
Ольга родилась в Павлодаре, куда ее папа, Андрей Борисович Трухачев, приехал после освобождения из лагеря, и Анастасия Ивановна четыре года жила с семьей сына. Снимали комнатку с кухней, где не было ни шкафов, ни стульев, только железные кровати. Но зато звучала иностранная речь: Анастасия Цветаева говорила с Ритой только по-английски и по-французски, а маленькая Оля легко впитывала новые слова.
— Бабушкин сын Алеша умер от двух вишенок, и после этого бабушка стала смертельно бояться дизентерии, — рассказывает Ольга. — Нам ягоды нельзя было в лесу съесть, я прятала землянику во рту, а бабушка требовала: “Открой рот!” И не дай бог, если на зубе оставался ягодный след. Шпарилось все, даже клубника. Яблоки становились белыми от кипятка. Нельзя было есть рыбу копченую: “канцер”! Но в Эстонии так хотелось! И бабушка брала рыбу, варила в кипятке. Потом уже, когда у меня появились дети, я сердцем прочувствовала ее страхи.
В 1943-м, в лагере, Анастасия узнала о самоубийстве Марины. Страшную весть скрывали от нее два года. Рана кровила всю жизнь.
— Однажды мы поссорились, и я закричала: “Да ты достала меня, хоть вешайся!” Никогда не забуду бабушкин кулак над столом: “Не смей! В нашей семье это уже было!” Бабушка очень боялась, что кто-то из семьи уйдет раньше нее. Мне как самой младшей всегда внушалось: “Оля, мы уйдем друг за другом, тебе будет трудно, не плачь”. Так и получилось — в полтора года они ушли все: папа, бабушка, тетя. Потом мама. После смерти папы бабушка сидела, как в саркофаге, склонив плечи, опустив руки. Я упала перед ней на колени. Она подняла меня: “Вот и случилось, чего я боялась больше всего в жизни”. Папа своей смертью вырвал из нее стержень.
У нас не было нежных отношений в семье, все очень сурово, по-спартански. Но жить друг без друга не могли. Помню, как папа с бабушкой ругались по телефону. У них разница всего 17 лет. Папе — 80, бабушке — 97. Папа в сердцах вопит бабушке то слово на букву “ч”, которое употреблять нельзя (Анастасия Ивановна никогда не произносила слово “черт”. — Е.С.), и оба бросают трубку. “Как ты смеешь ругаться с бабушкой?!” — кричу я. В это время раздается телефонный звонок. Там бабушка: “Не смей орать на отца!” Выскакивает мама: “Сумасшедший дом!” — и мы разбегаемся по комнатам.
О годах в заключении в семье не говорили, но прошлое все равно прорывалось отголосками. Лишь однажды Андрей Борисович сказал: “Весной в лагере было три тысячи человек, а осенью осталось пятьсот”. Зона его сломала. После возвращения он начал пить, это была боль для всей семьи.
— Кясму был пограничный поселок, туда можно было ехать по пропускам, которые выдавали после 10-дневной проверки, — рассказывает Ольга. — Когда мы пришли с бабушкой в центральный паспортный стол в Москве, она вышла из кабинета вся белая: “Поехали домой. Я никогда не знала, что эта бумажка мне пригодится в жизни”. Ее спросили: “Вы были репрессированы? — видимо, поняли по серии паспорта. — Принесите справку о реабилитации, мы вас даже проверять не будем”. Бабушка помнила, что справка была в конверте. Но она ведь ничего не выбрасывала. За горой высыпанных на пол бумаг меня, девятилетнюю, не было видно. Бабушка сказала: я ищу справку, а ты встаешь на колени и молишься вслух. Молитва ребенка идет прямо к Богу. И первая нашла я. Это уже был не конверт, а какие-то лохмотья, и внутри свернутая бумажка — вся жизнь за 22 года.
Из Москвы Анастасия Ивановна каждый год приезжала в Павлодар и увозила старшую Риту в Прибалтику. Когда же младшей внучке исполнилось семь, бабушка сказала: “Я заберу Олю”.
— Как я рыдала! Это было первое расставание с родителями на три месяца. Но в первый класс я пошла разговаривающей и читающей на английском. С этих пор каждый год до 16 лет я ездила с бабушкой в Прибалтику, сначала в литовскую Палангу, затем — в эстонский поселок Кясму. Только один раз не поехала: в 15 лет нахамила бабушке: “Возьмешь с собой — сбегу!”, и она меня не взяла.
Семейный деспот
Рита была любимой дочкой и любимой внучкой. Ольга нашла очень много писем Анастасии Ивановны в архиве, где она пишет папе с мамой только о Рите.
— Обо мне — два-три упоминания: “Оля маленькая, хорошенькая”. Когда бабушка была в сибирской ссылке, мама привезла к ней четырехлетнюю сестру, и Рита, конечно, спасла бабушку, это была любовь на всю жизнь, до истерики. И очень многое Рите прощалось, а мне никогда не простилось. Только недавно, я поняла почему. Я в дневнике у нее прочитала: “Оля достаточно сильный человек”. В детстве я ревновала к сестре — хотя бабушка пыталась нам все давать одинаково, это было с разной любовью.
Она дарила им города и встречи поровну. Если Риту возили в Ленинград, то и Оля с бабушкой отправлялась в город на Неве. Рита была в Коктебеле у Маруси — Марии Степановны Волошиной, и Оля гостила в знаменитом доме.
— Перед поездкой в Коктебель мне было сделано предупреждение не разговаривать за столом и не смеяться, но я то и дело прыскала. Бабушка и сама была смешлива. Я безумно любила, когда она начинала хохотать. Часто она подхватывала за мной заливчатым, как колокольчик, смехом. В Коктебеле было заведено: младший моет посуду. Там такие сборища сидели за столом, но я с удовольствием мыла посуду.
— А летние каникулы в Кясму?
— В Эстонию заранее посылалось по 15 посылок на свое имя, чтобы меньше вещей тащить с собой. Бабушка все старалась предусмотреть. В поезде я должна была спать на нижней полке, а на верхней спала бабушка. Она привязывала себя веревкой к поручням, чтобы не упасть. Чтобы я за три дня не забыла гаммы, она сделала картонную клавиатуру, и я “играла”.
Мы никогда не ездили в купе, потому что бабушка боялась, что меня изнасилуют. По этой же причине мне нельзя было одной пойти в туалет: запертые двери опасны. Бабушка заставляла меня ходить на горшок в плацкартном вагоне. Искореняла ложный стыд. А мне было 12 лет. Жара, пить хочется, детям покупают лимонад, мороженое, а мне ставили кружку, ложку с ваткой и смачивали губы, чтобы я в туалет часто не ходила.
— Когда вспоминаешь близкого человека, видишь его внутренним зрением. Это как моментальный снимок. Какой вам видится бабушка?
— В шляпе, с палкой под мышкой, а на палке авоська, в ней галоши мои, зонтик и дождевик. Одета бабушка, как Гаврош. Многие нас упрекали, что мы плохо следим за ее одеждой. Попробовали бы они ей это сказать! Новые вещи покупались, но бабушка всегда что-то распускала, что-то вставляла, и, так как шить она не умела, все висело бахромой.
Еще вижу, как она пишет ночью. И как бежит. Бабушка и умереть мечтала на бегу. В Кясму мы всегда опаздывали на автобус в Вызу, где я занималась музыкой, и водитель уже знал, что в последний момент выскочим мы с бабушкой и запрыгнем на ходу.
— Читала, что Анастасия Ивановна никогда не пользовалась лифтом, а в почтенном возрасте могла сбежать, подняв “клюшку”, по эскалатору с такой скоростью, что дежурные замечание делали. И на коньках гоняла!
— Ей было за 80, когда на Патриарших прудах она нарезала 17 кругов на коньках. Бабушка брала с собой друга Андрея, чтобы мальчишки не кидали ей под ноги снежки. Она ведь была маленькая, худенькая, на “норвежках”, в шапочке с мысиком — девочка со спины. Когда мальчишки догоняли — кидались врассыпную: Баба-Яга!
— Анастасия Ивановна была жестким аскетом в быту и невероятно требовательной, даже деспотичной, к родным.
— Бабушка считала, что волю подростка надо ломать, хотя восторгалась самостоятельностью моих сверстников. Когда мы жили еще в Павлодаре, я знала, что со мной будет, когда бабушка приедет: неделя мирной жизни, а потом она начнет меня в бараний рог скручивать. Ритка с ней боролась, а мне приходилось смиряться. Начинались мои мучения с едой геркулеса по утрам — сопливого, на воде сваренного, серого, соленого. Потом она стала процеживать. Гущу съедала сама, а мне оставляла отвар. В кастрюлю риску ставила, чтобы я не выливала геркулес обратно. Я отдавала кашу голубям, выбрасывала в окно и даже вылила как-то под рояль.
Я спрашивала: “Баб, можно я корочку хлеба возьму?” — “Ты кушать хочешь?” — “Нет, только корочку”. — “Вот тебе первое, второе и третье, а теперь и корочка хлеба”. Сама она была строгой вегетарианкой всю жизнь. И, когда видела кур бегающих, всегда говорила: “Все мои куры умерли естественной смертью”. На моей памяти она всего раз, незадолго до смерти, ела мясо. Я готовила беляши, потому что вечером должны были прийти ее друзья. Запах разносился по всей квартире. И вдруг бабушка говорит: “Хочу! Дай!” Она съела два беляша. Моя вина.
…Отказаться есть геркулес, не говорить на английском и делать что хочется Ольге разрешалось только два раза в лето: 1 июля — в день ее рождения и 24 июля — в день ее ангела.
Цветаева носила длинные юбки. Внучки тоже не должны были демонстрировать ноги.
— Почему-то бабушка считала, что самое неприличное место у женщины — это колени. Все платья и юбки отпускались ниже колен. Она не разрешала мне носить брюки до 16 лет. Я восстала: “Хорошо, надену короткую юбку!” И бабушка сама подарила мне брюки: “У Оли и почки будут здоровы, и коленей не будет видно”. Она не разрешала мне носить девичьи туфли и покупала мальчиковые сандалии. Я ненавидела эту обувь. “Не хочу эти сандалии с рантом!” — кричала я. “Не с рантом, а на ранте”, — поправляла бабушка. “Нет, с рантом!” — орала я на весь магазин, зная, что говорю. При этом я понимала, что никуда не денусь.
Она не разрешала завязывать волосы в конский хвост — “лошадь делает пи-пи”, и говорила, что “челка — это вульгарно”. “Ах, так!” — в 16 лет я подняла волосы и, наверное, от злости обрезала челку, наоборот, под корень. Волосы на этом месте почему-то долго не росли — бабушка посмеивалась: “Бог тебя наказал!”
Тогда мода была на локоны-завлекалочки. После того как я сказала это слово бабушке, последовало наказание: три часа стоять на коленях и молиться, потому что “завлекалочки бывают только у проституток”. У бабушки на каждый случай была история, которая с кем-то случилась.
Когда мы отдыхали в Эстонии, у нас даже не было зеркала. Я смотрелась в кастрюли — или учительница музыки отвлекала бабушку, чтобы я могла 15 минут покрутиться перед зеркалом. Когда я окончила школу, мама разрешила мне чуть-чуть подкрашивать ресницы. А брови у меня всегда были черные. Когда я входила с солнца в дом, бабушка плевала на палец и пыталась мне смыть брови. Но первое колечко с топазиком купила мне бабушка в 9-м классе.
— О мальчиках и думать было нельзя?
— У меня никаких мальчиков и не было. Чтобы освободиться из-под воли папы и бабушки, я в 20 лет выскочила замуж за Сергея. На самом деле я сегодня об этом жалею, но счастлива, что у меня такие сыновья. В самое страшное время Андрей и Григорий меня поддерживали. “Анну Каренину” я прочитала в 27 лет — это было как удар в сердце. Я хотела любви, а ее не было. Приехала к бабушке совершенно несчастная, мне было плохо, я не знала, что делать: уйти от мужа или остаться? Она простояла всю ночь на коленях, гладила меня по голове. Утром, когда я проснулась, она сказала: “Оля, я всю ночь молилась, чтобы Господь послал Сереже хорошую женщину”. Ударение на слове “хорошую”.
Живут же люди!
— Узнаете в себе черты Анастасии Ивановны?
— Жесткость — бабушкина, деспотичность — тоже. Память развивала мне бабушка. Первая книжка — “Стойкий оловянный солдатик” — бабушка. Русский язык, литература, музыка — все бабушка. Она меня учила читать; мне было пять с половиной лет, мы сидели в Павлодаре за столом, и она объясняла правило на “жи-ши”. Я повторяла: “лыжи, мыши”, как пишется, с мягким “и”, — бабушка топала ногами, кричала: “Аn idiot!”
В первом классе по дороге домой надо было пересказать стихотворение Пушкина на английском языке. За лето мы проходили весь учебник английского с упражнениями и читали весь список по литературе, от корки до корки.
Все деньги за первое издание “Воспоминаний” в 66-м году она проездила: возила нас в Эстонию. Подарила мне пианино. А себе не купила ничего. Через год после ее смерти я нашла Евангелие, а в нем записочка, что она просит у Бога прощение за то, как она деспотично обращалась со мной и сестрой всю нашу жизнь.
Она была светлым пятном, праздником. Запахом корицы, ванили, мандаринов. На Рождество в Павлодар приходила посылка с козинаками, фундуком, восточными сладостями. На ящике химическим карандашом — бабушкин почерк. Она была всегда. И сейчас, когда мне плохо, я зову: “Помоги, приснись!” И они приходят: мама, папа и бабушка. А я навещаю их на Ваганьковском кладбище.
— Последние ее дни вы были рядом…
— Она говорила, что я стала ее семьей. Я забрала ее к себе. Вижу как сейчас: она сидит в кресле, я на подлокотнике: “Баб, поедем на Большую Спасскую, к тебе домой”. Врач сказал отвезти ее в привычную обстановку. “Никуда не поеду, я у тебя живу, как у Христа за пазухой, хотя я не знаю, где пазуха у Христа”.
Она многих людей на путь веры повернула, многих отмолила. И я впервые видела, как дьявол борется за душу человека. Три недели борьбы. Я никому не рассказывала об этом. Она хватала меня за руку до синяков. “Оля, — говорила бабушка, — не пускай его!” Не могла даже прочитать “Отче наш”. Я заставляла ее писать молитву — сначала строчки ползли вкривь и вкось, потом появлялся каллиграфический почерк.
В Переделкине священник исповедовал ее, причастил, и случилось чудо. Три дня это был прежний Баб, который носился по дорожкам переделкинского Дома творчества. Память вернулась, она стала писать. Могла мне ночью крикнуть: “Оля, быстро перо и бумагу, я работать буду!” И, прислонившись к подушке, начинала писать. Она уже видела дверь с надписью “Анастасия”. Говорила: “Оля, там Марина и Андрей, но мне еще рано, там пока занято”. Последние слова ее были: “Оля, зачем…”
Она говорила: “Я тяну ваши души за уши!” Требовала от меня, но и от себя. Объясняла: “Оля, отдай, тебе в 10 раз больше вернется”. И в самый трудный момент, когда после смерти папы я одна металась: мама в реанимации, бабушка умирает, — все люди встали рядом, каждый подставил плечо. Кто-то хлеба приносил, кто-то пол мыл, кто-то копейкой помогал и в дни похорон, и в дни поминовения. Из правительства Москвы позвонили и предложили помощь: “Оля, ну что же вы не сказали!”
Мне было очень стыдно, но даже гроб нам подарили. Роскошный, за 1700 долларов, с ручками, ключиками — хоть сама ложись! И вот такой казус: выносим бабушку, стоят соседки у подъезда и вдруг говорят: “Живут же люди!” Бабушка в последний раз ехала по Москве на белом “Кадиллаке”…