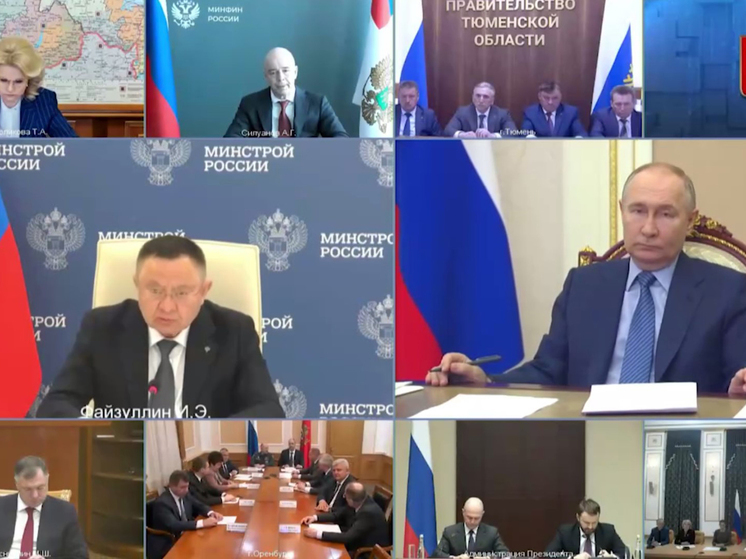И даже не без намека приурочиваем. Очень любопытный выведен тут герой. Очень интересное показано время. Выстроен своеобразный сюжет — от послевоенных лет вплоть до наших дней. Все это волнует.
Чтобы не пересказывать рассказ нашего постоянного и любимого автора, мы просто приглашаем читателя (и всю славную московскую милицию, которую сердечно поздравляем с праздником) к прочтению “Атанды”!
Встреча со старым другом — хорошее начало для рассказа. Вот в рассказе встретились два старых друга. Обрадовались, поворошили незабытое прошлое, растрогались от воспоминаний. Выпили, если пьющие.
Мой рассказ начинается со встречи со старым врагом.
Было, вернее, две встречи. Одна — года два назад, глубоким весенним вечером, почти ночью, на берегу Москвы-реки, и об этой встрече я сейчас расскажу. Вторая — на городском мероприятии после возвращения делегации Москвы из разрушенного Цхинвала. Когда люди разошлись, он, высокий даже при своей старческой сутулости, подошел ко мне, вгляделся через очки с толстенными плюсовыми стеклами и сказал: “Узнал я тебя. Теперь я вас узнал. А ночью-то, у реки, сомневался, хотя знак вам подал. Глаза, Юрий Михайлович, уже не те у меня”.
— А ноги как? — спросил я.
— Ходить хватает, бегать нет, — четко, не по возрасту (и с намеком, который я понял, конечно же) ответил он.
— Нам нынче бегать не надо, — я ответил на намек. — Давайте чаю попьем. С медом. Поговорим.
— Это можно. За это спасибо.
Поговорили. Кое-что прояснили из наших отношений.
Первая, вечерне-ночная наша встреча была абсолютно случайной. Я прилетел в Москву из трудной командировки поздним вечером того дня, когда по Москве-реке пропускали большую воду, накопленную водохранилищем во время весеннего паводка. Дело очень полезное для очистки реки. Не то чтобы вал какой-то идет по реке, но вода катит мощно — и реку чистит.
Остановил машину на набережной, решил посмотреть на это дело. Да и подышать захотелось сырым, весенним, живым речным воздухом.
И помолчать хотелось, потому что командировка выдалась действительно трудная. Не хочется здесь вспоминать все ее обстоятельства, просто скажу, что пришлось увидеть страдающих людей в больницах — страдающих израненных взрослых и детей.
И вот здесь, в Москве уже, не отпускала память эти детские лица, бледные, с черными тенями под глазами, такими черными, какой была чернота в подвалах, на вторых и первых этажах зданий, в школьных классах, где их завалило под бетонными плитами и откуда не всех живыми достали.
Всех жалко — и взрослых, и детей, но ведь если у тебя сердце есть, то детской болью оно опаляется сильнее. Страшнее. Даже болезнью, не говоря о худшем.
Я вышел из машины, подошел к парапету набережной. Нельзя сказать, что было тихо, потому что город полной тишины не знает, невозможна она, полная тишина, но все-таки, противоречу себе, было тихо. По-городскому.
Пошли мысли одна за другой, и что-то из послевоенного детства навевалось мне в память, когда видел я лаково-темную и с проблесками от фонарей речную воду. Вдруг я понял, что стою на том самом месте, где когда-то, после войны, мы, пацаны, дворовое братство мальчишек, купались, прыгали в воду через сваи, рискуя свернуть свои тонкие шеи.
И припомнился лютый наш враг, которого мы дразнили обидной кличкой Длинный Мент.
Это был милиционер, выше михалковского, из известного стихотворения, дяди Степы. И нрав его, вспомнил я, был куда как нехорош в сравнении с поэтическим образом милицейского защитника всех детей и взрослых.
Странная, может быть, ассоциация пришла мне тогда в голову, но и понятная, конечно. Дети, глаза их, мука в их глазах, и вот через несколько часов я стою на набережной ночной Москвы-реки и вспоминаю лихое детство свое, в котором только случай спасал меня и верных друзей моих от самого страшного, страшнее и конечнее любой боли.
В детстве можно было подорваться на снаряде, которые мы без особых трудностей “уводили” с Павелецкой-товарной в нужных нам количествах, можно было под трамвай попасть, в пожаре сгореть, отравиться, разбиться в прыжке с высоченного гаража, куда однажды загнал нас взбесившийся пожарный, после того как мы подожгли “пожарку” — деревянное здание пожарной части.
Мы прыгали, убегая, с этого гаража в переплетение рваного железа, каких-то балок, труб… Смертельный номер. Повезло. Пронесло как на крыльях.
Счастливое детство, одним словом. Что же, по-своему действительно счастливое, такое, какое выпало моему поколению послевоенных пацанов, у которых было мало перед кем отчитываться, а воля бурлила через край.
Вообще, воли было в той жизни много, и не у мальчишек только, но и у взрослых тоже. Часто — злой и жестокой воли, часто и памятнее — доброй. Была своя гармония жизни.
И нас несла Москва-река!
Вот было любимейшее занятие, вот была радость, вот восторг — разбежаться по углу причала, взмыть птичкой-ласточкой, перелететь через сваи — и вонзиться в воду, переливающуюся бензиновой радугой!
Сваи, торчащие из воды или чуть скрытые водой, терпеливо поджидали нас, нашей маленькой ошибочки, когда не хватит всего нескольких сантиметров, и — прощай навеки, Москва-река, прощай-прости нас, наше детство…
Кайф был еще и в том, что Сталин (так тогда считалось, ибо кто же еще–то?) запретил купаться в Москве-реке. Обидно.
Но тут такой расклад: ты запрещаешь, а мы купаемся!
Прыгать с набережной нельзя, а мы прыгаем!
И если нас гоняет с набережной налитый нечеловеческой ненавистью милиционер по кличке Длинный Мент, то нам в высшей мере плевать на него, его вопли и матюги, его беготню за нами, когда он длиннющими своими ходулями совершал не беговые шаги, а какие-то кенгуриные прыжки вослед нашей быстроногой и, замечу, бесштанной стае.
Дядя, ты не на тех пацанов напал! Недавно была война, дядя, поэтому мы генетически храбрые, мы храбрые потому, что наши отцы победили фашистов. А если надо, то мы свалим от твоей погони, растворимся в бараках, уплывем по Москве-реке.
Мы скорчим тебе обидные рожи, и не потому, что мы злые.
Злой и недобрый — ты!
Мы знаем, что ты нас отлупишь, если поймаешь. Мы понимаем, что ты нам вывинтишь уши из головы для начала, а потом начнется канитель с повестками и штрафами (на которые где деньги-то брать), с вызовами родителей, со всякими милицейскими списками, куда попасть легко, а выпасть трудно.
Мы прыгаем в воду, ты нас гоняешь, и кто кого победит — для нас вопроса нету.
Победа будет за нами — это тоже было в нашей генетике в те годы.
Она и есть за нами, и сейчас тоже. За пережившим войну народом. И кое-что после войны пережившим, относительно недавно.
Я далек от пафоса. Просто знаю это.
Длинный Мент и мы наладили очень непростую игру, и участвовали в ней не только ноги, но и ум, и азарт, и особые навыки послевоенного детства и послевоенной жизни.
В “запрещенной” и оттого невыносимо притягательной Москве-реке вода была грязнющая, у берегов особенно, а на середине — почище. На середине реки мы и оказывались, когда Мент нас окончательно “доставал”.
Против него было у нас заветное, лихое слово: атанда!
Клич тревоги. Сигнал.
Атанда! Атанда! Атанда!
Чтобы наши шмотки не достались Менту, мы перед прыжками через сваи складывали их и одного из нас оставляли за сторожа, “на атасе”. Когда откуда-нибудь из-за угла подкрадывался Длинный Мент, мы бросались в воду. Сторож с нашими нехитрыми пожитками убегал в условленное место, а мы, куражась перед милиционером и всячески его понося, дрейфовали вниз по течению, к автозаводу, где берега представляли собой болота, дебри и свалки, — недоступное никакой милиции место.
Там мы были полные хозяева, туда никогда милиция не совалась, как никогда не совался в воду за малолетним хулиганским элементом наш заклятый друг Мент.
Куда ему! Оставить форму и оружие на берегу, чтобы вплавь догонять пацанов! Ни–ко–гда!
Человек так устроен, что просто попрыгать через сваи, через запреты (самого товарища Сталина!) ему мало. Ему хочется услышать этот взлетающий над рекой и берегом крик: атанда!
Он подстегивает нервы и мускулы, он делает тебя разжимающейся пружиной. Он мгновенно мобилизует, и, скажу я вам честно, иногда я сам себе подаю этот мобилизационный сигнал.
А тогда, после войны, прыжки наши закончились после одного тактического приема, примененного Длинным Ментом против нас. Этот прием отличался особой, изощренной хитростью.
Он наказал нас унижением, но закончилось все по законам чести.
А дело было так. Выставив (люди, будьте бдительны!) сторожа над шмотьем, мы начали наши ураганные прыжки в бензиновые узоры, и длилось это счастье до посинения.
Сторож заскучал и пару раз оставлял свой пост ради полетов над сваями.
Длинный Мент где-то в отдалении, где мы его, конечно, видеть не могли, забрался, невероятным образом скорчившись, в кабину полуторки, пригнулся к педалям башкой, чтобы его не видно было, и велел шоферу подъехать на малом газу прямо к сторожу с трусами.
Что законопослушный водитель и сделал и на что мы ровно никакого внимания не обратили, потому что полуторок в Москве было в то время немало. Не диво было полуторку увидеть.
Длинный Мент с матерным торжествующим воем вывалился из полуторки, схватил в охапку наши штаны вместе с оробевшим сторожем, картинно поставил ногу на подножку кабины и сказал одно слово. Две буквы:
— Ну!
Этими двумя буквами он вытащил нас из воды, а потом, подтягивая к машине, властно повторил еще раз:
— Ну!
Нам некуда было деваться без одежды. Мы подошли к полуторке.
— Открывай борта! — скомандовал он шоферу. — А вы все в кузов! Ну! Я два раза не повторяю. И заодно сдать дежурному трусы!
Это было невероятно. Нас, мужчин (будущих), раздеть догола! Но победитель диктует, а побежденный исполняет.
Мы, голые, без единой нитки на теле, залезли на открытую со всех сторон площадку кузова, Длинный Мент стал у кабины, как капитан на мостике, и полуторка очень медленно, людей же везет, покатила по Москве.
Машина подает сигналы, дудит. Мент стоит мрачный! Мы сгораем от унижения и стыда.
Граждане делают свои комментарии. Девчонки на нас тоже смотрят.
Долгий и стыдный путь наш лежит в Кожевники, в отделение милиции.
Там Длинный Мент отдает нам трусы и шмотки и берет честное слово, что никогда больше, ни-ког-да ни один из нас не будет прыгать через сваи. Иначе…
— Я знаю, что никаким другим способом я вас от вашего баловства не отучу. А отучить обязан. Кровно обязан.
Почему кровно?
— Поэтому я беру с вас честное слово. Без протокола. Без повестки родителям. Без квитанции и расписки. Только честное слово. Знаю, что если дадите, то не нарушите. А не дадите — будет другой разговор.
Еще и по пинку дал на прощание!
Он мог бы и не говорить всего этого. Если дал честное слово, держи его, крепко держи, если ты мужчина. Ни-ког-да не нарушай честного слова.
Мы вышли из милиции. Жалкие, стыдно было, позорно и обидно: что ж он, гад, такое наделал над нами. В глаза друг другу не глянешь и стыд этот никогда уже не забудешь. Мыслимое ли дело — голых по Москве возить белым днем. Гад, гад, гад!
Но — мы дали честное слово.
И мы его не нарушили.
…И вот я вспоминал обо всем этом, стоя ночью на берегу Москвы-реки, когда боковым зрением заметил, что кто-то подходит ко мне по набережной, высокий, сутулый, и, проходя мимо, этот высокий сутулый старик как будто прошелестел одно только слово: “Атанда!”
Или показалось мне? Или прилетело это слово из детства прямо сюда, на берег Москвы-реки, весенним вечером 200… года?
Я посмотрел ему вслед, он не обернулся, и что-то знакомое почудилось в его облике, и я подумал: неужели Длинный Мент?
Стук его палочки удалялся и затихал. Что это было — встреча с врагом? И был ли он врагом? Был ли он спасителем?
Прошло несколько лет. Недавно, после поездки в разрушенный Цхинвал, на одной из встреч, где я об этой поездке рассказывал, высокий, сгорбленный старец подошел ко мне.
— Узнал я тебя. Теперь я вас узнал. А ночью-то, у реки, сомневался, хотя знак вам подал. Глаза, Юрий Михайлович, уже не те у меня.
Дальнейшее вам известно: я пригласил его попить чаю.
— Я вас всех по фамилиям знал, пацанов. Помню: Лужков, Топорков, Касьянов, Карамнов. Оформлять протокол не хотел — все бедно жили. Когда вас, в зрелом периоде, показывать по телевизору начали, я приглядывался: тот ли Лужков или другой? А ночью на реке — это было случайно. Я туда часто хожу.
— Страшно там было, в Цхинвале? — вдруг без перехода спросил он. — Вы видели там детей, кто все это пережил? Глаза их видели?
— Видел. И могилы их видел.
Что было рассказывать. Мы помолчали.
— Понимаете, никто не крикнул им, когда бомбежка началась, никто не крикнул им: атанда! Да ведь кричи не кричи, а если ночью залпами по спящему городу… — он говорил, и я понимал, что слова эти рвут ему душу.
Он продолжал, будто сам себе:
— А я с войны не могу видеть детей в опасности. В любой. В войну, в Отечественную, мне пришлось разгребать завалы жилого дома. После бомбежки. Там были дети. Вы понимаете меня? Вы меня понимаете? И после войны, сколько детей подорвалось. А вы, малышня, когда летали над сваями — я не знал, что делать, как вас оградить. Я боялся увидеть… Поэтому и полуторку вам подал. Потом подумал: я же мучитель. Но я спасал вас.
— Спасли, — сказал я.
Разговор вышел не очень долгий, но весь до слова я его помню. Заметив, что он (Григорий Владимирович К…в) устал, я сердечно попрощался с ним, распорядился отвезти его домой.
Поехал на то место у Москвы-реки, где побывал когда-то ночью и где он проговорил-прошелестел мне: “Атанда!”
Тревожно было на душе, потому что нет покоя в мире ни днем, ни ночью, потому что гибнут дети, гибнут взрослые — и не видно конца безумию войн, разгулу зла, не ограждены мы от злобы, болезней, несчастий и трагедий. И дети тоже не ограждены.
Хочется набрать в легкие воздуха и крикнуть, разрезая и раскалывая беспамятство и равнодушие, крикнуть, чтоб услышали люди, которым грозит беда, крикнуть спасительное слово: “Атанда!!!”
Ответит ночное эхо.
Но, может быть, хотя бы один город будет предупрежден и спасен.
Хотя бы один человек.
Ради этого — стоит кричать.