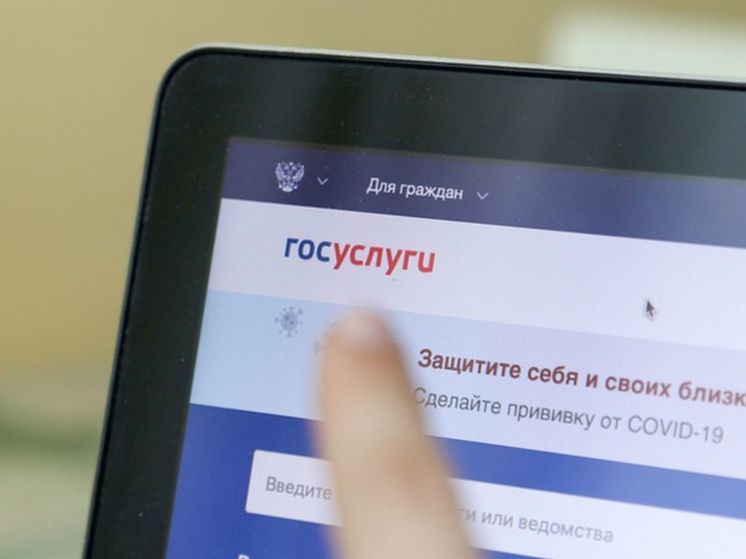МК В ВОСКРЕСЕНЬЕ Большие и маленькие люди живут в семьях, трутся бок о бок, но не встречаются, как две параллельные линии в геометрии Евклида. Почему так? Болеем, говорят психологи. Все болеем. Как старые рояли с порванными струнами. Точных цифр по родительскому "безлюбью" нет. Ужасать нечем. Но стоит оглянуться, всмотреться в себя — и многое покажется не столь уж незнакомым. Инна Карповна Агаркова, 48 лет. Мать троих детей-инвалидов. Моника — умерла пяти лет от роду от цирроза печени. Зося, 20 лет, — сывороточный гепатит, врожденный цирроз. Миша, приемный сын, 14 лет, — ДЦП в результате занесенной менингакокковой инфекции. Все имена изменены. — Мы жили, не думая о будущем. Боялись думать о нем. Не хватало времени задуматься. День проходил, и наступал следующий. Кто их ждал? Никто... Утром девочка просыпалась. Все начиналось сначала. И это, конечно, выматывало. Я жила без надежды. Без цели. Ничему не радуясь. Я сама себе казалась аквариумной рыбой, которой скучно плавать в аквариуме. Музыка, театры — это сны. Меня поставили на караул, может, и к чему-то важному, но сменить забыли раз и навсегда. И так день и ночь... Что же меня удерживало? Я могла отдать ее в интернат. Не отдала. Любовь? Теперь я точно знаю, что нет. Пусть это как угодно звучит, но я не любила своего ребенка. Не лю-би-ла — я терпела. Терпела, как терпят нелюбимого мужчину, с которым приходится жить совместно. Стыд и чувство вины изводили невозможно как. Я винила себя, мужа, собственную мать и даже бабушку — ни за что ни про что. На улицу не хотелось выходить. Только вечером, словно воровка, в капюшоне... Разве я делала что-то не так? Никто не посмеет упрекнуть меня в этом. Все, что положено делать матерям инвалидов, я делала. Пока ей не исполнилось шесть лет, я спала два-три часа. Я носилась с ней, как с хрустальной вазой. В любой день она могла реально умереть. Она то гасла, то возрождалась. Я к ней никогда не относилась как к чужой. Меня мучил страх за нее почти ежеминутно с тех пор, как впервые в три месяца кожа на ее теле пожелтела, а волосики поднялись на голове, словно электрические проводки. То же самое было с ее сестрой, которая родилась до нее и умерла в возрасте пяти лет. Всю ее жизнь я протаскалась по инфекционным больницам, где нас сначала заражали через прививки, а потом лечили от того, чем заражали... И диагноз у нас был — сывороточный гепатит. И никто не сказал мне, что это может быть наследственным. Девочка умирала пять лет и наконец умерла на моих глазах. Цирроз печени... Мне говорили: не гробь себя — рожай дальше. Я родила. Однажды и эту дочку начало выворачивать наизнанку, кожа покрылась крупными пупырышками, температура подскочила до 40, а изо рта запахло печенью. Я хорошо помнила этот запах. Я поняла, что это конец. И решила: пусть все будет, как Бог даст... В больницу не поехала. Десять дней мы делали ей анальгиновые клизмы, и она выжила. Бог — дал. Теперь она такая, как есть. Двадцать лет, ростом — пятилетний ребенок, лицо древней старухи, ножки тоненькие, ручки немощные... Я боялась за нее настолько, что садилась с ней в машину только в обнимку. Я спрашивала себя: а что будет с ней, когда меня не станет? Мы не говорили с ней о смерти никогда. Но несколько раз она слышала, как я разговаривала по телефону с матерями умерших детей насчет помощи на похороны. А потом мы были на кладбище. И книжки, что она читала... И меня точила мысль: надо успеть что-то сделать. Что-то доброе и обязательно для кого-то. Зачем? Чтобы оставить после себя что-то. Нас недолго будут помнить. А это и не нужно. Умирать с ощущением сделанного добра будет не так противно. Я себя пыталась поставить на ее место. Она ведь все понимает. Может, от этого вся жизнь — отрезок странного существования, с самого начала лишенного драгоценных человеческих, женских радостей, — не покажется ей бессмысленной... И тогда мы все вместе поехали в префектуру и в храм, договорились о подарках, взяли адреса и поехали к одиноким людям, до которых никому не было дела. А стыд! Вы знаете, что за гадость — этот стыд? Когда стыдно пройтись с больным ребенком — собственным! — по улице за руку. Потому что все прохожие смотрят, словно тыкают, и говорят: пить надо меньше. Ни я, ни муж не пили — кому это объяснить?.. Нет, я никогда не думала избавиться от нее. Не приходило в голову. Я терпела, терпела, терпела... И тут однажды случилась очередная гадость Мы шли с ней в магазин, две женщины двигались нам навстречу. И одна из них, даже не скрываясь, показывала на нее пальцем и хихикала, смеялась в голос... Раньше я плакала от обиды, от усталости, от безысходности; даже от злости плакала столько раз! А здесь вдруг собралась по привычке реветь — ком в горле, а слезы не идут. Кончились. Я себя почувствовала несчастной дурой, которую разоблачили в... краже чипсов из супермаркета. Мы проходим мимо, я ее ручку сжимаю в своей, а она хмурит свой лобик и говорит: — Мамочка, не плачь. Ее Бог уже обидел — она глупая... Я закрыла глаза. Ничего подобного я больше никогда не испытывала. Меня втянуло во что-то... может быть, похожее на трубу. Труба, заполняясь мною, громко хлюпала, словно втягивала макаронину. Втянула — и тут же выплюнула. Только в этот миг я успела увидеть себя со стороны. С левой стороны. Стоит женщина. Стоит, глаза глупые, моргает, сама не двигается. Превратилась в столб... Это кратковременное умопомешательство — не знаю как сказать... помогло мне. Я вдруг иначе посмотрела на свою дочку. Я увидела в ней колоссальный запас здоровья. Особенного здоровья, о котором никто и не подозревал. Да я в первую очередь ничего не замечала! Что-то перевернулось во мне. Я заплакала. Долго стояла и ревела посреди улицы. И мне, с одной стороны, становилось все легче на душе, а с другой — я почувствовала, словно выросла над собой. Зося сказала мне: — Мама, у тебя глаза светятся... В старой "Волге" едут убогие люди. Двое детей-инвалидов, их мама и молодой священник. С неба крошится снег. Настроение у всех приподнятое. Они везут несколько коробок, связанных красными ленточками. Понятно, что это подарки. "Волга" останавливается у пятиэтажного дома. Они поднимаются на третий этаж. На лестнице стоят дети с портфелями, в шапках, и целуются. Священник вздыхает. Мама делает вид, что ничего не заметила. Большой Миша играется с разноцветными пивными пробками. Только Зося смотрит во все глаза. У нее карие глаза. В темноте блестят белки. Она никогда не видела этого так близко. Дети немного подросли и целуются. Они даже младше, чем Зося. Зосе — двадцать лет. Целующиеся дети — очень красивые. Про Зосю так может сказать только мама. Девочка на лестнице что-то шепчет на ухо мальчишке и прижимается к нему... Священник совсем молодой. Лет на пять старше Зоси. Он несет подарки, иконки и несколько церковных газеток. Он стучит в квартиру — дверь не заперта. Процессия заходит в дом. Здесь живут одинокие пожилые женщины. Болезнь и старость свела их вместе. Раньше у них были семьи. Теперь — нет. Священник садится в стороне на табуретку, предоставляя комнату детям. На окнах — белые занавески. В углу — клетка с попугаем. Попугай почему-то похож на воробья. Старухи поворачивают головы. Лица у них бессмысленные, но светлые. Болезнь подтачивает женщин. Они почти никого не узнают. Единственная подвижная старушка, хроменькая, правда, спохватившись, причесывает "компаньонок". — Здравствуйте, бабушки, — говорит мама. — Эта не слышит, а та слышит, — уточняет хроменькая. — Да?! Все равно. С Новым годом, со всеми праздниками и Рождеством! — проговорила мама. — Мы принесли вам подарки от Центра социальной помощи округа и от нашего клуба... Она забывает сказать о священнике. Тот вежливо не напоминает. Маленькая Зося получает в руки коробку. Под красной ленточкой — рождественская открытка. Она протягивает подарок одной из лежачих бабушек. Та очаровательно улыбается. Зубов во рту нет. Они, наверное, где-то рядом. Наверное, в тумбочке. — Бабушка, у тебя слезки, — весело говорит Зося. — Слезки, слезки, — повторяет за ней женщина. — Тебе страшно? — Страшно мне? — Ну да. Мне страшно, — лопочет Зося. — У нас в клубе есть мальчик. Он не совсем хорошо соображает. Хочет обнять и делает больно. Тебе делали больно?.. Большой Миша косолапо подходит к глухой старушке. Та протягивает руку. Но Миша самостоятельно вспарывает ленточку и заглядывает в коробку. Там белая женская рубашка, шоколад и пачка чая... — Слон! — заинтересованно и односложно выражается Миша. Он не хочет отдавать чай с нарисованным слоном. Он забывает о пивных пробках. Он поднимает крик. — Пусть, пусть, — лопочет испуганная женщина. Она согласна на рубашку и шоколад. Чай и слон остаются у Миши. Он прижимает слона к груди и успокаивается. Все молчат. Никто не знает, о чем еще говорить. В квартирке у старух — опрятно, но очень бедно. Что-то невпопад вякает похожий на воробья попугай. Бабки смотрят на детей и плачут. Мама кусает губы. Священник шумно поднимается. Но хромая женщина останавливает его. У нее есть мороженое. На днях к ним приходил человек, рассказывает хроменькая, — он был большой, лысый и страшно бородатый. Он принес бабкам крупы, макарон, сгущенного молока и банку сливового сока. И еще он принес мороженое. Он не знал, какое бабкам по зубам, и скупил в магазине все. Бабки мороженое не ели. Они о нем забыли. Теперь мороженое кушают дети. Все очень довольны, и от неловкости не осталось и следа. Зося играет бабушкам на гитаре. А затем большой Миша вместе с мамой читает стихи. Язык плохо слушается его. Миша взволнованно и с чувством мычит. В такт ему мама переводит: "В пустыне жаркой и скупой, под зноем солнца раскаленной..." Выступает Миша с явным удовольствием. А потом все расстаются. Подарки вручены, стихи спеты. Бабушкам наверняка приятно, что о них вспомнили. К ним очень редко заходят люди. n n n Зося и старушка смотрят друг на друга. Бабушка хочет обнять Зосю, но боится. Они разговаривают о конкурсе выпечки в клубе для инвалидов. — Что же тебе больше всего нравится? — спрашивает старушка. — Не знаю, — бойкая Зося вдруг теряет интерес. — А что мама печет? — спрашивает старушка. Но Зося уже где-то далеко. Она не видит, не слышит, словно улетела куда-то. — Мама все печет, — отстраненно говорит Зося. Они смолкают. Старушка беспомощно смотрит на девочку. Она не может ее понять. — А мой папа в жюри сидит, — возвращается Зося, — он все там пробует. — Ужели? — глуховатая бабушка приподнимается на локте. — А ты не хочешь все пробовать? — Не-е, — говорит девочка, — там надо все без спросу брать. — Что ж плохого? — старушка не знает, что еще спросить. — Как что? — искренне изумляется Зося. — Адам и Ева съели без спросу яблочко... Что случилось?! Священник поднимает на девочку изумленные глаза. Некоторое время Зося и старая женщина смотрят друг на друга. У них — одинаковые стариковские лица. У больной двадцатилетней девочки ростом с ребенка и женщины, прожившей долгую и, может быть, даже радостную жизнь. Кажется, что каждая из них смотрит в зеркало и сквозь него. Только у Зоси нет морщин. Старуха тянется поцеловать ребенку руку. n n n Рождение ребенка не пробуждает любовь к нему. Материнский инстинкт — это не любовь, а молозиво в груди. Что-то должно поселиться внутри матери до ее беременности. Если этого не произойдет, если ребенок родится нездоровым... Свято место пусто не бывает. Отвратительный жилец — страх — взращивает и лелеет в человеке чувство вины, чувство беспомощности, жалость к себе и тупой стыд. Он возводит целые замки на пустом месте. Мать, не принявшая своего ребенка таким, как он есть, с самого начала самоуничижает себя. И делает это с силой, с которой должна была бы любить. Поэтому можно понять тех родителей, которые расстаются с собственным ребенком из-за его увечий. Они говорят себе: мы не в состоянии его лечить и бороться, у нас нет ни сил, ни умений. Пусть это сделают специалисты в интернате. Ну, а все прочие обрекают себя на мучительное существование. В подавляющем большинстве дети-инвалиды талантливы или мудры, как святые. Но даже в здоровом ребенке родители умудряются не разглядеть исключительного человечка... Надо прекратить убиваться. Признаться себе, что да, не люблю, только терплю и все такое... А затем вспомнить, встряхнуть свою память. Не может такого быть, чтобы там, на "забытом этаже", не тлело воспоминание о пережитом тепле... Память о добре очень живуча. Только упрятана глубже, чем память об обидах, горестях и несчастьях. Пусть мать вспомнит радость, связанную с собственным ребенком, возникновением семьи, надеждой, первым толчком в животе или знакомым черточкам в младенческом лице. Но если на такое она не способна, пусть пороется в поисках любого другого: влюбленность в мужчину, кусочек детства, летний дождь, доброе слово... Это даст толчок. Это заставит сердце раскрыться... Любовь — это не чувство, не эмоция, а полнота жизни, отдающая себя другому человеку бескорыстно и бесстрашно.