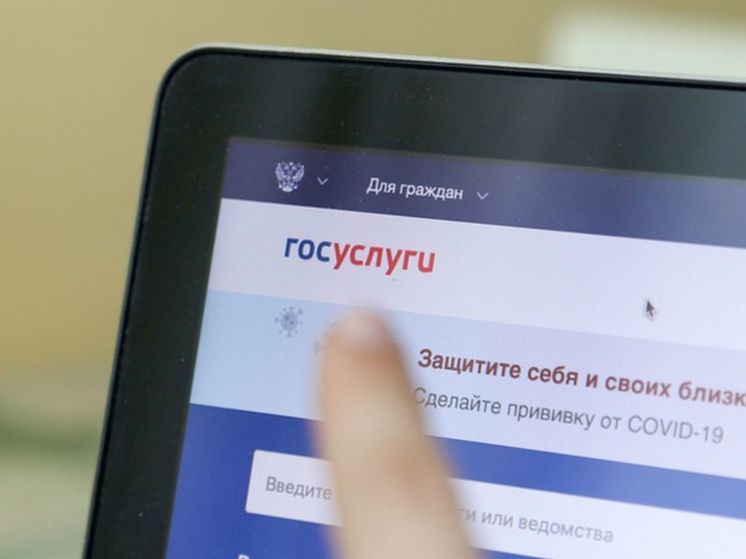Январь 1963-го в Целинограде был холодным и вьюжным. У касс “Аэрофлота” в гостинице “Ишим” я встретил собкора КазТАСС по Целинному краю Володю Шевченко — он летел в Алма-Ату за очередными ценными указаниями.
— Ты куда? — спросил он меня.
— В Тургай.
— На край света, значит, — усмехнулся Володя.
Я очень хорошо помнил копию старой гравюры из учебника географии для пятого класса. Монах добрался до края света, просунул голову в небесный свод и с интересом наблюдает за тем, что происходит по другую сторону.
Но мы с младых ногтей были материалистами и знали, что земля круглая, поэтому встречи с прекрасным на “краю света” я не ожидал.
Да и добраться до него было нелегко. В Кустанае в инстанциях мне объяснили, что поезда туда не ходят, а автомобильное сообщение прервано из-за заносов; остается один путь — воздухом.
В аэропорту дежурный, веселый парень в летной вытертой куртке, доходчиво объяснил мне, что облачность низкая, в полетном коридоре снежные заряды, поэтому борты на Тургай не ходят.
Но все-таки некая магия редакционного удостоверения сделала свое дело (в те годы к журналистам относились с опаской и почтением), и дежурный поведал мне, что на “край земли” идет один борт спецрейсом.
— Вы сами-то откуда будете?
— Из Целинограда.
— Да нет, живете вы где?
— В Москве.
— Земляк, — обрадовался дежурный.
Выяснилось, что он с Лесной, окончил Егорьевское училище ГВФ, прибыл сюда по замене кадров на два года и считает дни до отъезда домой.
Мы поговорили о Москве, с тоской вспомнили пивбар “Прага” в парке культуры и еще много замечательных московских мест.
— Я тебе постараюсь помочь, через час спецборт идет на Тургай, может, уговорю пилота.
Мы вышли на летное поле. Следы заметала поземка, небо, мрачное, как жизнь, низко висело над взлетной полосой; казалось, подними руку — и коснешься темных облаков.
Вдалеке прогревал моторы небольшой “Як” с красным крестом на борту.
— Санавиация? — спросил я.
— Угу, — ответил мой спутник.
— Врачей везут?
— Можно и так сказать, — усмехнулся дежурный.
Мы подошли к машине. Пилот уже прогревал моторы.
Дежурный замахал руками, и пилот вылез из кабины.
— Слышь, Коля, — сказал мой благодетель, — возьми корреспондента на Тургай.
— Я что, — развел руками Коля, — я со всей душой, только сам знаешь, кто здесь командует. Попробую уговорить.
Через несколько минут из самолета выглянул казах явно руководящего вида, в овчинном тулупе, накинутом на синее номенклатурное пальто с серым каракулевым воротником.
— Документы, — со знакомыми интонациями распорядился он.
Я протянул ему свое удостоверение, в котором было обозначено, что я — зав. отделом краевой комсомольской газеты.
Наверно, нигде в СССР не любили так должности, как в цветущем Казахстане. Чин “зав. отделом” заставлял задумываться национальных начальников.
Пока непроницаемый казах сверял мою фотографию с оригиналом, из самолета выпрыгнул некто в кожаном пальто и пыжиковой шапке.
Он посмотрел на меня веселыми смеющимися глазами, взял у казаха удостоверение, мельком глянул и протянул мне.
— Откуда сам?
— Из Москвы.
— Земляк. В командировку?
— Конечно.
— Возьмем корреспондента, Есым Естомбаевич, возьмем. Поможем подручному партии.
Я залез в холодную кабину самолета, пилот дал мне ватный чехол, которым закрывали мотор.
— Накинь, корреспондент, а то в своем пальтишке замерзнешь.
— Ничего, врачи не дадут.
— Это точно, — ответил веселый человек в кожаном пальто, — мы врачи-общественники, у нас свое лекарство.
И как только самолет, вылетев, лег на курс, он вытащил из портфеля бутылку коньяка “Двин” и два раскладных стаканчика.
Мы выпили за знакомство, полет стал значительно приятнее.
В Тургае на летном поле рядом со странным сооружением, именуемым “Аэропорт”, моих попутчиков ждали местные врачи-общественники, двое из них были в светлых офицерских полушубках, погоны на них радостно светились васильковыми просветами.
— Ты куда, земляк? — спросил меня кожаный человек по имени Борис.
— В совхоз “Южный”.
— Не ближний свет. Возможно, там и увидимся.
Я прилетел в этот забытый Богом, но не оставленный заботами КГБ город по письму.
В совхозе “Южный” директор школы Бекбаулов избивал русских детей.
Когда я уезжал в командировку, мой московский знакомый Рамаз Мчелидзе, сын знаменитой певицы Веры Давыдовой, работавший в Целинограде зам. зав. отделом пропаганды крайкома партии, сказал мне:
— Разбирайся как следует, только ни в коем случае не противопоставляй казахов и русских. Никакой национальной розни. Обычное бытовое хулиганство.
Секретарь райкома комсомола встретил меня с положенным радушием, сказал, что в семь утра в “Южный” пойдет грузовик с продуктами и захватит меня.
— Долго ехать-то? — поинтересовался я.
— Да нет, затемно выедете и затемно приедете.
Я все понял: в заснеженной степи никто не мог назвать точное время маршрута.
Так оно и вышло. С веселым приблатненным водилой Серегой мы покинули степную столицу в семь, а приехали около двенадцати ночи.
Два дня я разбирался с фактами бытового хулиганства. Беседовал с испуганными потерпевшими пацанами, с их родителями, написавшими письмо в редакцию, со страшным хулиганом Бекбауловым, который угрожал мне сначала карами за незнание национальных проблем, потом открыто сказал, что здесь вокруг степь, а у него в округе полно родственников.
Но я не убоялся степных разбойников, отловил неведомо куда исчезнувшего участкового и вырвал у него заявления родственников о рукоприкладстве.
Разместили меня на жилье в учебном кабинете бригады механизаторов. Убрали скамейки и поставили две койки. На второй размещался главный инженер райсельхозмеханизации, который пока отсутствовал.
Вечером я решил пойти в клуб, прочитав на столбе афишу, что сегодня идет новый фильм “Люди и звери”.
На улице недалеко от клуба встретился знакомый механизатор, отец одного из пострадавших мальчишек.
— В картину? — спросил он.
И я сразу же вспомнил армию и крик дневального:
— Рота! Выходи строиться в картину.
Так почему-то испокон веков именовался в Вооруженных силах кинопросмотр.
— Да, хочу посмотреть, вечер-то длинный.
— А ты, корреспондент, к землячкам своим сходи.
— К каким землячкам?
— Они ссыльные вроде, в последнем бараке по этой улице живут. Хорошие бабы, симпатичные, грамотные. Может, лучше время проведешь.
В длинном одноэтажном бараке светились окна, закрытые кокетливыми ситцевыми занавесками.
Я поднялся на крыльцо, постучал.
— Заходите, открыто, — крикнул звонкий женский голос.
Я открыл дверь, и в лицо ударил забытый запах хорошего парфюма и кофе.
Невероятно, но в этом бараке “на краю света” я встретил трех своих московских знакомых, прелестных девочек, окончивших Иняз и МГУ.
В Москве мне кто-то сказал, что они вышли замуж за иностранцев и уехали за бугор.
Лену, одну из первых московских красавиц, бывшую жену моего товарища-кинорежиссера, я знал достаточно хорошо. Она окончила Иняз, работала переводчицей на Иновещании радиокомитета, и от поклонников у нее не было отбоя.
В 1959 году на первом Международном кинофестивале в Москве она познакомилась с итальянским сценаристом, у них начался бурный роман, и она разошлась с мужем.
Но выйти замуж за иностранца в те годы было так же трудно, как найти знаменитую Янтарную комнату. То есть практически невозможно.
Внезапно Лена исчезла из Москвы. Она больше не появлялась на модных живописных выставках, на премьерах, в любимом кафе “Националь”.
— Уехала в Рим, — говорили знакомые.
А все оказалось просто и незатейливо. Сначала ее уволили с работы, а через месяц отвезли в суд как тунеядку.
Приговор — три года высылки “с обязательным привлечением к труду”.
У других девочек истории были практически одинаковые.
Одна собиралась замуж за капитана армии ГДР, слушателя академии, другая встречалась с арабским летчиком, учившимся в Жуковске, третья...
Метод расправы был один — увольнение с работы, потом суд за тунеядство.
Кстати, в бараке жили десять девиц из Москвы и Ленинграда. Летом они работали прицепщицами на комбайне, зимой вкалывали на ферме.
Работали хорошо, назло тем, кто послал их сюда.
Меня поразили их руки — натруженные, но лак ало светился на ногтях.
— Я с работы прихожу, — сказала Лена, — руки пемзой ототру и маникюр делаю. Назло им.
Я понял, что к жителям совхоза это не относится.
“Им” — это тем, в Москве, которые спокойно распорядились ее судьбой, навсегда поломали жизнь.
Мы сидели долго. Пили противную местную водку “Арак”, запивали ее кофе.
Я ушел, договорившись зайти на следующий день.
В классе механизации, на стене которого висел макет тракторного двигателя в разрезе, а над ним засиженная мухами фотография “дорогого Никиты Сергеевича”, сидел мой “сокамерник”. Это был опытный командировочный.
Он переоделся в полосатую пижаму, домашние туфли и орудовал кипятильником.
— А, сосед, — обрадовался он, — давайте знакомиться, меня зовут Леонид Иванович.
Эта поездка состояла из сплошных совпадений. Казалось, что пол-Москвы загнали в этот далекий край.
Леонид Иванович тоже был москвичом. Он начал жадно расспрашивать меня о столичных новостях, но мои рассказы о книгах, кино и театрах не очень интересовали его. Он хотел узнать политические новости.
— Я мало интересуюсь политикой, — ответил я.
— Так не бывает, политика, как вирусный грипп, подкрадывается к вам, и вы заболеваете.
Леонид Иванович предложил мне через день ехать в Тургай на его машине.
Утром, когда я, побрившись, пытался набрать воды из жестяного умывальника, появились кожаные пальто.
— Одобряю, — засмеялся Борис, — узнаю настоящего мужика. Надо быть выбритым, вымытым и немножко пьяным.
— Послушай, ты у девочек был?
— А что, нельзя?
— Да нет, что ты, — улыбнулся он, — кто тебе может запретить. Только осторожнее будь. Я о тебе в Москве справки навел, ты, говорят, паренек битый. Только на рожон не лезь.
— Это как?
— А так, — Борис вытащил из внутреннего кармана журнал в глянцевой обложке. “Шпигель”, — прочитал я.
— На, смотри.
И я увидел фотографии знакомого барака, комнаты с койками и лица ссыльных девочек.
— Ты же в Германии служил, значит, немецкий знаешь.
Я начал читать статью. Но язык я без практики подзабыл, вникал в написанное медленно.
— Ты так до Нового года читать будешь, — сказал Борис.
Он взял журнал и начал быстро, даже с каким-то изяществом переводить с листа.
— Понял? — спросил он, закончив.
— Ты что кончал? — поинтересовался я.
— МГИМО.
— Что, лучше дела не нашел, чем гонять ссыльных девок по степи?
— А ты никогда не горел?
— Бывало.
— То-то и оно. Думаешь, мне интересно шалав этих давить? Но все равно узнать надо, кто из этих сучек немцам материал подкинул.
— А если это не они?
— Может быть, здесь ссыльных немцев навалом. Они могли своим помочь. Ты к ним пойдешь сегодня?
— Пойду.
— Прошу тебя, не бери у них никаких писем, не порть себе жизнь.
Уходя, он обернулся и сказал:
— Кстати, с соседом своим осторожнее будь.
— Почему?
— Он же бывший зам министра. В Москве на “ЗИМе” ездил. А вот куда попал.
— В каком министерстве он работал?
— В аппарате Совмина у Маленкова. Ну, до встречи.
— Как он сюда попал?
— За связь с антипартийной группой.
Я вышел из своего “отеля”. Погода стояла пасмурная и противная. Ветер гнал мелкий снег, и он сек по лицу.
Совхозные дома барачного типа за ночь прилично замело, и они стояли даже нарядные.
Таких совхозов, выстроенных на пустом месте, в степи было несколько десятков. В них вкалывали в основном ребята и девушки, приехавшие по комсомольским путевкам из Центральной России, Москвы и Ленинграда.
Газеты и радио и встающее на ноги телевидение ежедневно вещали о подвигах тружеников целины.
И действительно, было о чем писать. Волонтеры, приехавшие в необжитую степь, давали рекордные урожаи. Совхозы отгружали государству сверхплановые тонны зерна.
Но этот урожай так и не доходил до таинственных “закромов страны”. Была пшеница, но не было ни элеваторов, ни хранилищ, и тысячи тонн зерна, добытые кровавым потом городских романтиков, решивших, что их труд изменит жизнь страны, гибли.
Зерном были засыпаны обочины дорог, на железнодорожных станциях тысячи тонн намокали под осенним дождем, кое-как прикрытые кусками брезента и толя.
Целина была одной из крупнейших “панам”, которую изобрел партийный вождь Никита Хрущев.
Мне не довелось быть свидетелем начала оттепели. Мне не довелось вдохнуть маленький глоток свободы после ХХ съезда партии. Я тогда служил в армии и жил по двум неизменным законам — Уставам строевой и внутренней службы.
Я вернулся в Москву в 1957 году, в период закручивания гаек.
Был разгромлен альманах “Литературная Москва”, подвергнут остракизму роман Владимира Дудинцева “Не хлебом единым”. Потом Аджубей, Шелепин и Семичастный с благословения Хрущева начнут издеваться над Борисом Пастернаком. В августе в Темиртау взбунтовались рабочие знаменитой ударно-комсомольской стройки Карагандинского металлургического комбината. Они протестовали против нечеловеческих условий жизни. Тогда впервые армия по приказу Никиты Хрущева применила оружие.
Потом меня поразила история Яна Рокотова. Я неплохо знал этого человека и могу сказать, что это была не самая светлая личность. Суд отмерил ему за валютные операции положенное количество лет на лесосеке с бензопилой “Дружба”. Но партийный вождь приказал изменить Уголовный кодекс, введя расстрельную статью за валютные операции, а потом заставил закон обрести обратную силу и повелел Верховному суду СССР изменить уже утвержденный приговор. Ян Косой был расстрелян в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.
А в январе 1963 года я впервые “на краю света” встретил спецпоселенок из Москвы. Именно тогда, пусть с большим опозданием, я начал понимать, что никакого “светлого завтра” не наступит, а социализм с человеческим лицом — очередная утопия, рожденная в ночных спорах на московских кухнях.
Много позже я пойму, что Никита Хрущев на ХХ съезде развенчивал культ личности от страха. Он панически боялся, что стоявшие у трона закаленные в аппаратных играх соратники великого вождя сбросят его и раскатают в лагерную пыль.
Никита Хрущев сменил умершего водителя, но осталось главное. Государственная партийная машина. Она двигалась по своей колее, и остановить ее было невозможно. Многие еще погибнут под ее тяжелыми гусеницами, в том числе и сам Никита Сергеевич. Машина раздавит его и поедет дальше. Она двигается и сейчас, просто ее из красного перекрасили в трехцветный.
Все же я зашел попрощаться к ссыльным девочкам и, несмотря на предупреждение кожаного человека, взял у них письма домой.
А потом опять была степь, и на горизонте она сходилась с темным небом. И мне казалось, что вот-вот я доеду до края земли и увижу монаха, пробившего головой свод.
В Тургай мы приехали поздно, и Леонид Иванович предложил зайти к нему поужинать.
Он жил один, семья осталась в Москве, в доме на улице Горького, стоящем впритык к Моссовету.
Он соорудил немудреную закуску, достал бутылку коньяка. И начался странный ночной разговор. Леонид Иванович был близок к власти, поэтому знал много. Для меня тогда это стало полным откровением.
Он рассказал о Маленкове, убеждая меня, что если бы к власти пришел Георгий Максимилианович, то жизнь в стране потекла бы по новому, счастливому руслу.
Маленков должен был стать преемником Сталина. Он огласил отчетный доклад ЦК КПСС на XIX съезде, что обычно делал первый человек в партии.
Сталин был уже болен и бывал в своем кремлевском кабинете не более трех раз в месяц. Практически страной правил триумвират: Маленков, Берия и примкнувший к ним секретарь ЦК, он же первый секретарь МК и МГК КПСС Никита Хрущев.
Они точно знали, что дни Сталина сочтены. Но для того чтобы будущий преемник чувствовал себя спокойно и уверенно, надо было посадить своего человека на МГБ.
Виктор Абакумов был лично предан Сталину.
Тогда появилось письмо на имя Сталина подполковника из Особой следственной части МГБ Михаила Рюмина.
В нем говорилось, что министр госбезопасности Абакумов покрывает террористическое подполье, в качестве примера приводилось дело еврейского националиста Этингера и руководителя Молодежного антисоветского союза борьбы за дело революции Юрина. Дальше в письме были приведены факты морального разложения министра и его шалости с казенными деньгами.
Абакумов был снят и арестован.
Новым министром стал человек Маленкова, бывший секретарь обкома С.Д.Игнатьев, работавший в ЦК зав. отделом парторганов.
Но убрать Абакумова было половиной дела. Были еще личный секретарь вождя Поскребышев и начальник охраны генерал Власик.
После съезда партии в ЦК был создан новый отдел по подбору и распределению кадров. Возглавил его Н.Н.Шаталин, верный соратник Маленкова.
Генерал Власик был арестован, а многолетний личный секретарь Сталина А.А.Поскребышев уволен с этого поста.
Берия и Маленков сделали просто невозможное. Устранили из Кремля тень вождя.
Ровно в двенадцать погас свет. Электричество “на краю света” отпускали крайне дозированно. Леонид Иванович зажег керосиновую лампу. Он, рассказывая, шагал по маленькой комнате, и тень его причудливо ломалась на стене.
А за окном ветер бил в стекла снежными зарядами, словно пытаясь раскачать затерявшийся в степи саманный город.
— Знаешь, почему Хрущев отдал хохлам Крым? — внезапно спросил он.
— Нет.
— Он до войны был первым секретарем ЦК КПУ в Киеве. По его инициативе было репрессировано около 200 тысяч человек. Эти архивы вывезли во время войны, и они осели в ЦК. После победы Хрущев вновь уехал на Украину, и волна репрессий и выселений вновь была чудовищной.
Довоенный архив в Москве уничтожили, а за документы послевоенные он и подарил Украине Крым.
Я по сей день не знаю, так ли это, на чем основаны утверждения Леонида Ивановича, а тогда я пытался возражать, найти некое оправдание для Никиты Хрущева.
— Не надо, — сказал Леонид Иванович, — не ищите нам оправданий.
— Кому “вам”?
— Всем, кто управлял на разных уровнях страной.
— Значит, и вы виноваты?
— Конечно. Но все же меньше, чем Хрущев, которого вы пытаетесь защищать. В 1936 году, будучи первым секретарем МГК, он сетовал на бюро, что в Москве арестовано всего 308 человек, и призвал коммунистов к суровой борьбе с врагами народа. Указания лидера столичных коммунистов быстро претворили в жизнь. За 1936 и 1937 годы в Москве было репрессировано около шестидесяти тысяч человек. А вы говорите!
Мне было жутковато и интересно, словно я открыл какую-то дверь и сделал первый шаг в темноту.
— Можно я запишу ваш рассказ?
— Сделайте милость, — Леонид Иванович взял с полки общую тетрадь в коричневой ледериновой обложке и протянул мне.
Когда мы прощались, он сказал:
— Придете на ночлег в райком, прочитайте еще раз свои записи и сожгите в печке.
— Почему?
— Неужели не понимаете?
Утопая в снегу, я добрался до райкома. Долго стучал, пока недовольный казах сторож-истопник открыл мне дверь.
В кабинете, отведенном мне под жилье, я зажег свечу и еще раз прочитал записи, вложил в тетрадь письма ссыльных девушек и заснул.
Проснулся я от странного ощущения, будто кто-то смотрит на меня. В комнате никого не было. За окном полоскался грязновато-серый рассвет, и в его зыбком свете я увидел странную огромную голову, кивающую мне.
Я тоже на всякий случай кивнул. Потом оделся и вышел во двор. У моего окна стоял верблюд, запряженный в сани, и уныло мотал головой.
Я подошел к нему и похлопал по шее. Он грустно посмотрел на меня и кивнул.
Когда я вернулся, ни тетради, ни писем на столе не было.
Я выскочил в коридор. Пусто. Только лозунг на стене на русском и на казахском: “Партия — наш рулевой”.