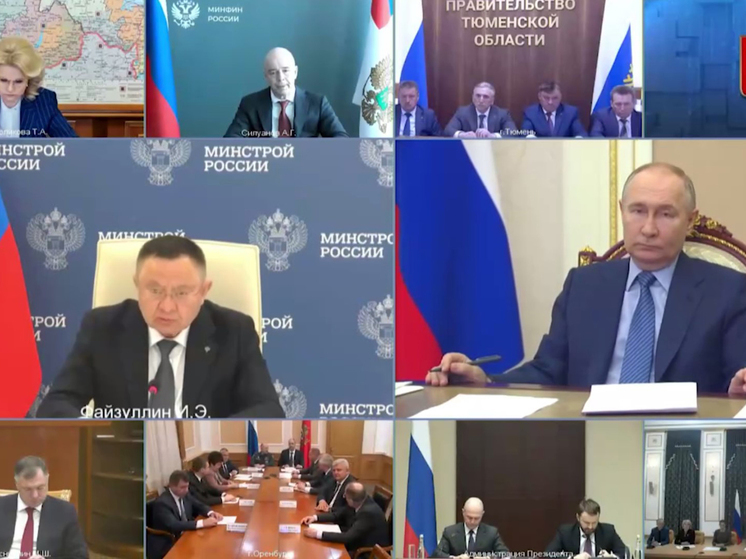Том, ставь!
Памяти Томаса Колесниченко
Образцовыми собкорами в те годы считались журналисты, сидевшие дома, писавшие только по газетам, ходившие на приемы лишь в советские посольства и копившие деньги на покупку машины или квартиры. Учитывая смехотворную мизерность нашей зарплаты, даже поход в кино отдалял человека от заветных “Жигулей” и тем более от квартиры “со всеми удобствами”.
На “представительские” можно было купить в месяц от силы полторы бутылки виски, и правоверные журналисты распивали ее в одиночестве: “представительскими” собкоры запивали горе от невозможности представительствовать. Помню, когда я впервые приехал в Нью-Йорк, первым импульсивным желанием было пойти на Бродвей. Я попросил одного из коллег подбросить меня на Бродвей - у меня еще не было автомобиля.
— Зачем, — ответил он. — У меня есть хороший документальный фильм о Бродвее. Если хочешь — поставлю.
Коллега был холодный сапожник, который, сидя в Нью-Йорке, тачал машину и квартиру и изредка — корреспонденции. Парадоксально, но факт: лекарством против “буржуазного разложения” была жизнь мелкого буржуа — уже без кавычек, — которую недреманное око партии и органов навязывало загранработникам, включая журналистов...
Том не был ни правоверным, ни тем более идеальным. Для этого он слишком любил и свою профессию, и свою страну, какой бы треклятой она ни была. Денег он не считал и не жалел. Не потому, что в Москве у него были машина и квартира. А потому, что он был жизнелюб и как человек, и как газетчик. Я бы назвал Тома профессиональным хлебосолом и прекрасным кулинаром, владевшим всеми тайнами русской, грузинской, китайской и иных кухонь.
У Тома было то, что ныне принято называть харизмой. Харизме не учат, с харизмой рождаются. В моем понимании, харизма — это душевное обаяние. Том был богат им, как Крез — золотом. Невозможно было не поддаться очарованию его жемчужной улыбки, его смеющихся глаз, тому, как он встряхивал светлыми кудрями.
Я не могу припомнить его злым, даже рассерженным, хотя поводов и причин для этого у Тома было столько же, сколько специй на его кухне.
Однажды в Нью-Йорк приехал вместе с высокой делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, довольно крупный дипломат и весьма интересный человек и собеседник. Том показывал ему город, водил по ресторанам и барам, помогал с шопингом, приглашал домой. Короче, в течение нескольких дней Том был его водителем и чичероне. Они стали не разлей вода. Перед отъездом дипломата Том попросил его взять с собой небольшую посылку. И вдруг дипломата словно подменили.
— А как я буду нести ее? В зубах? — сказал он неожиданно грубым тоном, каким его шеф произносил “нет” в ООН.
Тома словно молнией сразило. Он побледнел и процедил сквозь зубы:
— Ну тогда забудь.
И дипломат забыл. Видимо, для него дружба была улицей с односторонним движением.
Как отвергнутый на целую неделю друг, я не мог не позлословить по адресу заботившегося о своих зубах дипломата. До Тома моя ирония не дошла. Он был искренне уверен, что причина отказа заключалась в нем, что он чем-то нечаянно “обидел человека” и получил по заслугам. Лишь спустя время Том понял, что метал бисер перед свиньей.
С тех пор о неблагодарном человеке мы говорили: “Он груз в зубах не понесет” и наоборот.
Кстати, и заголовок этих растрепанных заметок — “Том, ставь!” — тоже из нашего с ним эксклюзивного словаря. Мы забавлялись немудреной игрой. При встрече каждый из нас пытался опередить другого словами “Мэлор, ставь!” и “Том, ставь!”. Тот, кто оказывался попроворнее, имел право на просьбу, исполнение которой было обязательным. И впрямь немудреная игра? Мы подстерегали друг друга, чтобы нанести удар в самый неожиданный, неудобный момент. Например, Том задает на пресс-конференции вопрос тому же Громыко, и вдруг в зале появляюсь я. Прервав вопрос, Том молниеносно произносит “ставь!”, обернувшись в мою сторону. Громыко озадачен. Мы улыбаемся. Как видите, немудреная игра была весьма сложной и... опасной. В чем заключался ее смысл? Наше полушутливое объяснение гласило: “Так выковываются народные вожди”. Слова эти принадлежат батьке Махно. Ими он заканчивал рассказы о том, как его пытали в царских тюрьмах. Мы, конечно, выковывали из себя не народных вождей, боже упаси, а выковывали независимый характер, свободу, ради которых можно было ошарашить даже Громыко.
Склонность Тома к полноте вредила его здоровью и внешнему виду. Готовое платье на полных людей не отличалось изысканностью. Однажды я решил “одеть” Тома. Это была еще одна слабо завуалированная попытка заставить его взяться за себя.
Том жил на Манхэттене в районе 80—90-х улиц, где магазины мужского платья были похуже, чем в центре. Там он и одевался. Соответственно. Как-то Том похвастался мне только что купленным костюмом. Качество исполнения было ниже даже советского пошива. Я схватил Тома за шиворот и поволок в магазин, где ему всучили тряпье для огородного пугала. Мы нашли продавца, сбывшего этого монстра Тому. Я заставил Тома обрядиться в монстра и обрушил тираду на голову испуганного продавца. Поскольку огрехи костюма были “на лице”, он не стал защищаться, вякнул нечто невнятное о переделке и вернул деньги.
Мы вышли из магазина — Том, виновато понурив голову, я, все еще пылая негодованием. Я сказал:
— Поехали в “Сакс” на Пятой!
Том повиновался. Мы вошли в этот фешенебельный универмаг. Я попросил подвернувшегося под руку продавца подобрать костюм для Тома. Измерив взглядом моего друга, что уже не предвещало ничего хорошего, продавец исчез и вскоре вернулся, неся в руках монстра, напоминавшего того, что с 90-й стрит, хотя и более профессионально пошитого. Но тем не менее монстра.
— А нет ли у вас чего-нибудь более стильного? Скажем, от “Армани” или “Валентино”? — осведомился я.
— Конечно, есть, но не для этого джентльмена, — высокомерно ответил продавец.
Мы молча покинули “Сакс” и стали отступать с боями вверх — вдоль Пятой авеню и Мэдисон-авеню в сторону Гарлема. Бои были ожесточенными. Мы пытались зацепиться за каждую стрит, пересекающую эти две главные торговые артерии Нью-Йорка. Мы заходили почти во все магазины мужского платья, расположенные от 50-х стрит до 90-х. С каждой стрит качество товаров убывало, и тем не менее мы слышали от продавцов один и тот же ответ:
— Экскюз ми, но для этого джентльмена стильных костюмов у нас нет.
Так мы — Том посрамленный, а я разбушевавшийся, как Фантомас, — добрались до того самого магазина, где был куплен первоначальный монстр. Мы решили испить чашу позора до дна и вошли в магазин.
Увидя нас, продавец вполне искренне удивился. Я уже попросил, а не потребовал вернуть Тому его костюм, переделав его и пригнав поближе к оригиналу. Обрадованный тем, что клиент вернулся к нему, как бумеранг, продавец согласился сделать все необходимые alternation бесплатно и позвал портного.
Когда мы вышли из магазина, я сказал Тому:
— Пока ты не похудеешь хотя бы на десять килограммов, забудь о “Саксе” и обо мне как твоем имиджмейкере.
Том обещал исправиться. Это было единственное обещание, данное мне Томом, которое он не сдержал. Зато наш кодовый язык обогатился новым выражением: “Это не “Сакс”. Порядковый номер стрит Манхэттена стал для нас шкалой оценок. Например, “эта корреспонденция написана на 120-й стрит”, то есть никуда не годится. Или о проходящей мимо девушке: “Вот это настоящая 60-я стрит!”
Улицы, улицы... Мы знали их как свои пять пальцев не только на Манхэттене, но и в Бруклине и в других районах Нью-Йорка. Том знал, в каком китайском ресторане подают лучшую утку по-пекински и в котором часу в лобби отеля “Аглоквин” собирается писательская элита Нью-Йорка; он мог профессионально объяснить, почему самые вкусные блюда из говядины можно найти в ресторане “Клуб ХХ” и как проникнуть в запасники музея “Метрополитен”; он находил для меня на пуэрториканском рынке даже такую редкую грузинскую зелень как джонджоли, имени которой нет ни в одном английском словаре, и проникал на закрытые дипломатические рауты как представитель фиктивного государства Джонджолии! Он, как Фигаро, был и здесь, и там. Везде.
В момент действа он загорался, он пылал. И утка по-пекински, и писательская элита, и невидимые шедевры запасников “Метрополитен” одинаково эмоционально встряхивали его. В этом он напоминал Александра Дюма-отца. И еще тем, что никогда не пьянел.
Том превосходно знал русскую и зарубежную классику. Он мог часами цитировать не только стихи, но и прозу. Память у него была дьявольская. Часто, отправляясь в командировку на одном автомобиле, мы, чтобы скоротать время, состязались в знании и памяти, а иногда сочиняли пародии на великих.
Из моих с Томом путешествий по Америке мне особенно запомнился Ниагарский водопад. Это был отпуск. Мы ехали на двух машинах с женами и сыновьями. Было радостно. У самих знаменитых водопадов мы до смерти напугали жен, войдя в воду в том самом месте, где она еще течет плавно, метрах так в 40-50 от крутого срыва, где она с грохотом падает вниз. Наше хождение по воде было пари: кто первым повернет назад, тот платит за обед. Никто не хотел уступать. На кону были не доллары, а смелость. Жены вопили “вернитесь!”.
Сыновья подбадривали “безумство храбрых”. Каждый шаг приближал нас к обрыву. Стал собираться народ. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не появились стражи порядка. Мы вышли из воды и были жестоко оштрафованы. Триста долларов с носа окончательно подорвали наши финансы, и без того расстроенные эпикурейством и прочими туристскими шалостями. Кредитных карточек тогда еще не было. (Когда их ввели, нам, совкам, не разрешалось ими пользоваться. “Резоны” гласили: залезете в долги — станете легкой добычей американских спецслужб!) А наличность, потрясенная штрафом, превратилась в мелочь. К счастью, у Тома была карточка на бензин. Из отеля мы съехали и две последние ночи провели в машинах.
Никогда не забуду нашу последнюю трапезу — завтрак на траве, но совсем не по Мане. У великого импрессиониста на полотне изображены всевозможные яства и бутылки вина. У нас... Жены разложили на пледе остатки прежней роскоши — печенье и чипсы, которые мы запивали простой водой. Не было денег даже на кока-колу...
— Сэр, извините нас, мы не знали, что вы сотрудник заповедника. Нам показалось, что вы турист, попавший в затруднительное положение, и мы решили поспешить вам на помощь.
Охранник поверил нам; уж не знаю почему. Его растрогало наше самопожертвование, и он не оштрафовал нас.
— Обо мне не беспокойтесь, — сказал он нам на прощание, — а вот вы сами больше так не рискуйте.
Мы пообещали больше не рисковать, выехали за пределы заповедника и помчались по направлению к Нью-Йорку, выжимая 160 миль в час...
Но что может сравниться с Нью-Йорком! Жизнь в Нью-Йорке — хождение по минному полю, особенно для советского человека, захотевшего ощутить себя свободным. Не знаешь, где и на чем подорвешься.
Я мельком упомянул о ресторане “Клуб ХХ”, где подавали лучшие в Нью-Йорке блюда из говядины. Ресторан принадлежал братьям Крейндлер, с которыми нас познакомил известный нефтяной магнат, доктор Арманд Хаммер. Как-то я и Том подарили Крейндлерам две бутылки 50-летнего юбилейного грузинского коньяка. В ресторане была великолепная библиотека спиртных напитков. Она помещалась в подвале, где в период сухого закона подавали алкоголь. Когда в ресторан заглядывали полицейские, подвал немедленно изолировался от остального помещения глухой стеной. Стена приводилась в движение коротким гвоздем, который владельцы втыкали в только им известную дырочку в стене. После отмены сухого закона Крейндлеры превратили подвал в винный погреб, но всю механику оставили на месте.
Так вот, когда мы пришли к ним с коньячными дарами солнечной Грузии, один из братьев — Пит — повел нас в заветный подвал. И продемонстрировал нам шедевры своей “библиотеки” — коньяки и вина времен Наполеона, столетние виски и так далее. Но наиболее ценными экспонатами оказались бутылки почти что пустые или совсем пустые. На них поверх этикеток были приклеены карточки с надписями вроде: “Заказана и выпита (затем следовала дата) президентом Джоном Кеннеди”. Стояли бутылки “заказанные и выпитые” президентами Рузвельтом, Никсоном, Рейганом, Мэрилин Монро и Джо Димаджио, Фрэнком Синатрой и Дином Мартином, Джо Луисом и Джеком Дэмпси, короче, почти всеми героями и символами.
Прежде чем присоединить наши дары к своему собранию, Пит приподнял одну из бутылок и пристально посмотрел на нее сквозь свет. И неожиданно рявкнул:
— Подать сюда виночерпия!
Вошел солидный джентльмен во фраке, похожий на дирижера.
— Мои русские друзья подарили мне коньяк 50-летней давности, а пробки у бутылок пластмассовые. Немедленно замените их настоящими!
Что и было исполненно. Пит осмотрел работу и остался доволен ею.
— Другое дело. Теперь можно ставить. Ни одна капля ценной влаги не испарится из них, — сказал он, — а тех, кто затыкает дорогие коньяки пластмассой, я бы подвешивал за яйца.
Мы охотно согласились с ним. Много лет спустя, в 2002 году, 97-летний Пит, единственный из братьев, оставшийся в живых (он умер год спустя), демонстрировал мне наши подарки. Жидкость в бутылках была на том же уровне, что и 33 года назад...
Доктор Хаммер познакомил нас с Крейндлерами не без умысла. Крейндлеры были страстными охотниками и рыбаками, любившими к тому же паблисити.
Все их похождения снимались на пленку операторами знаменитого журнала “Нэйшнл джиогрэфик”. Затем их показывали по телевидению, о них писали в журнале. Опытные охотники убивали одним выстрелом двух зайцев — делали рекламу своему бизнесу и утоляли гордыню. Заветной мечтой Крейндлеров было поохотиться в сибирских лесах и поудить рыбу в великих сибирских реках, разумеется, прихватив с собой и телеоператоров .
Доктор Хаммер рассчитывал на то, что Том и я, собкоры могущественных газет, поможем им осуществить заветную мечту, а заодно и сами получим интересное “стори”. Но, когда мы стали изучать по карте те места, где намеревались поохотиться и порыбачить ресторанные короли, нас охватил ужас. Эти места были закрыты не только для иностранцев, но и для советских граждан! По-видимому, там водилась совсем иная дичь.
Мы пытались отговорить Крейндлеров, но ссылались, естественно, на то, что Сибирь не Аляска, что в тех местах нет не только отелей и мотелей, но даже охотничьих домиков. Однако наши аргументы только раззадорили братьев. Они были согласны жить в палатках, которые обещали привезти из Америки. Делать было нечего, и мы пошли к нашему генконсулу в Нью-Йорке. Он посмотрел на нас, как на марсиан, и от разговора отказался. Зато серьезно переговорил с главным резидентом нашей разведки... Короче, нам стали шить дело.
Именно в эти дни в Нью-Йорк прилетел академик Георгий Арбатов, для нас просто Юра. Георгий-Юра был не только основателем и первым директором Института США и Канады, но и ближайшим советником Брежнева по американским делам. Ему поручались доверительные миссии, которые он обделывал с Генри Киссинджером вне дипломатических каналов. Отсюда его прозвище Неофициальный Советский Кися. Мы уцепились за Совкисю, как утопающий за соломинку. Мы потащили его в “Клуб ХХ” и познакомили с Крейндлерами. Те изложили ему свою просьбу, и Арбатов пообещал помочь.
Заскрежетал закулисный кремлевский механизм. Арбатов, видимо, успешно обработал Брежнева и шефа Лубянки Андропова, с которым дружил, и крейндлеровская мечта осуществилась. Им даже не пришлось воспользоваться своими чудо-палатками. В их распоряжение был предоставлен охотничий домик местного первого секретаря не то крайкома, не то обкома, разумеется, “со всеми удобствами”. Все кругом выиграли: страна получила валюту и восторженных поклонников, Крейндлеры — улов и паблисити, мы сорвались с крючка.
С тех пор у нас с Томом был если не открытый счет, то открытый доступ в “Клуб ХХ”. Как сказал Пит Крейндлер своему менеджеру: “Этих парней корми бесплатно!” Лучшей говядиной в Нью-Йорке! Мы этой привилегией не злоупотребляли, для этого мы были хорошо воспитаны и начитанны.
Но были завсегдатаями и знаменитого “Кот Баск”, который считался лучшим французским рестораном во всей Америке. Если путь в “Клуб ХХ” нам проложили Крейндлеры, то в “Кот Баск” — легендарный импресарио Сол Юрок. Мы с ним настолько сблизились, что он стал называть нас своими сыновьями.
Все началось вполне прозаически. Юрок привозил в Америку балет Большого театра, “Березку”, ансамбль Моисеева, Рихтера, Гилельса, Ойстраха, Ростроповича и других виртуозов. Мы шли к нему за пресс-билетами и интервью. Так постепенно деловые отношения перерастали в дружеские.
Сол Юрок ланчевал в “Кот Баск” каждый день в течение многих лет. У него был персональный столик, который по своему расположению уступал лишь столику Жаклин Кеннеди. Ланчевал Юрок, как правило, один. Несмотря на профессию импресарио, он был в сущности очень одиноким человеком. Друзей у него не было — только соперники. Единственная дочь жила своей особой жизнью. Старик жил прошлым — воспоминаниями о том, как познакомил Америку с Шаляпиным и Анной Павловой. Делиться воспоминаниями Юроку было не с кем. Книга мемуаров была уже написана. Сначала мы слушали его воспоминания с любопытством, затем из вежливости, затем из жалости и, наконец, из любви.
Мы установили между собой так называемые дежурства у Сола и соответственно графику ходили с ним поочередно в “Кот Баск”. Платил, конечно, он. Цена ланча в “Кот Баск” равнялась примерно трети нашей месячной зарплаты. Мы стоически выслушивали воспоминания старика, которые знали наизусть и неоднократно использовали в наших корреспонденциях. Но вот скучно нам никогда не было. Во-первых, сам Юрок был благодатным объектом для психологического наблюдения, а во-вторых, с его помощью мы перезнакомились со всеми постоянными клиентами “Кот Баск” — элитой Нью-Йорка.
Юрок был импресарио старой школы, и его отношение к артистам носило патерналистский характер. Он был для них отцом, но строгим. Однажды он заподозрил кордебалет Большого в том, что он не выкладывается и как-то физически слаб. Огромный опыт не подвел Юрока. Девочки экономили на еде. Тогда он приказал кормить их за свой счет, и кордебалет вновь засверкал всеми гранями своего мастерства.
Как-то Том и я стали свидетелями тягостной сцены. Великий русский танцор Васильев просил Юрока организовать ему “еще четыре концерта”. Васильеву не хватало на “Волгу”.
— Позор! — возмущался Том. — Достаточно Васильеву сделать один прыжок на Запад, и к его услугам будут кавалькады “Кадиллаков” и “Мерседесов”!
Васильев этого прыжка не сделал, но многие сделали. Юрок возмущался, вспоминая, как платил Улановой сто долларов за спектакль. То есть платил-то он сколько надо, но на долю единственной в мире Улановой оставалась лишь одна стодолларовая купюра. В то же время Юрок был жестким бизнесменом.
Например, он “подарил” Ростроповичу виолончель работы Страдивари, но “попросил” за это дать бесплатно 70 концертов! С нами он был куда мягче. Том и я имели доступ во все театры и концертные залы Нью-Йорка, начиная с “Метрополитэн опера” и “Карнеги холла”, по одному звонку Юрока и, разумеется, бесплатно. Но корм был не в коня. Уникальные связи, которые мы имели в культурном мире Нью-Йорка, в подавляющем большинстве своем не материализовывались на страницах “Правды” и “Известий”, где от нас ждали лишь материалов о “загнивании” американской культуры. Протискивать удавалось лишь небольшую частичку, ценой в позорные сто долларов Улановой.
— Ты знаешь, я все это складываю в себя на потом, которого не будет. Да и складывать уже некуда. Голова не резиновая, — говорил мне Том.
Журналистика — процесс непрерывного производства, вроде литья. Топлива всегда должно быть в избытке. Но слишком много топлива, которое не сжигается, сжигает тебя самого...
Нас изгнали свои из Нью-Йорка. Я стал невыездным на шесть лет. Том — намного меньше: Тома руководство “Правды” любило, а мое меня, говоря мягко, недолюбливало.
Прошли годы. Мы стали “начальниками”: Том — редактором отдела международной информации, я — редактором отдела стран Азии и Африки. Стали номенклатурными членами редколлегий. Наши жены отоваривались в спецмагазине. Мы лечились в первой кремлевской поликлинике. Но, как когда-то сострил Расул Гамзатов, “сижу в президиуме, а счастья нет”. Невыездная клетка сменилась золотой. Жить на этом свете становилось скучно. Мы загнивали вместе со страной. Лишь изредка поднимали трубки “вертушек” — кремлевских телефонов — и ошарашивали друг друга уже далеким, как детство: “Ставь!”
В последний раз я видел Тома в качестве собкора в 1990 году. В Лондон на экономический саммит прилетел Горбачев. Я воспользовался предлогом и тоже махнул в столицу туманного Альбиона из Вашингтона, где работал в Фонде Карнеги. В Лондоне Том меня интересовал куда больше, чем первый и последний президент СССР.
В лондонской квартире Тома стоял большой обеденный стол. Том по-прежнему был хлебосолом. На кухне всегда что-то готовили. Как всегда, жене его помогали супруги посольских работников и журналистов, над которыми он имел магическую власть. (В Москве он тоже был всегда в окружении женщин, прислуживавших ему с преданностью влюбленных рабынь, но под строгим присмотром Светланы.) Он великодушно позволял им ублажать себя, сверкал остроумием и излучал добрую волю. И все же, все же...
Он был тем же и не тем. Схватить суть разницы мне никак не удавалось. И вдруг я вспомнил гениальное суриковское полотно “Меньшиков в Березове”. Всесильный и блистательный вельможа удален от дел и сослан. Нет, Тома в Лондон никто не ссылал. Он сам решил обменять номенклатурную должность на собкоровскую.
Но для чего? Чтобы тряхнуть стариной? Мне он сказал: “Мэлор, в стране бардак. Бардак и в “Правде”. Как можно быть собкором бардака? Мне нужно в спокойной обстановке подумать, как жить дальше? В Москве это невозможно. Страна в брожении. Вероятнее всего, я вернусь в совсем иное государство. Без “Правды”. И потом Светлана заслужила хоть немного нормальной жизни”. Я усмехнулся:
И улетал из Лондона с тяжелым чувством. Я знал — порвалась не только гамлетовская связь времен. Рвалась наша физическая связь, связь людей, привыкших быть сиамскими близнецами. С лондонской встречи мы стали видеться все реже и реже — лишь во время моих нечастых наездов в Москву. Я звонил ему и ошарашивал: “Том, ставь!” Мы шли в китайский ресторан, обязательно в китайский. Мы пытались вспомнить старое, повернуть время назад. Но тщетно.
Китайские рестораны в Москве это не китайские рестораны в Нью-Йорке, где они примета старины и демократичны по цене. В Москве они примета нового времени и образа жизни новых русских.
Том менял работу, менял даже профессии. Он был по-прежнему душой общества. Его по-прежнему любили. Но что творилось в его душе? Какая любовь согревала ее изнутри? Он жаловался мне на сердце и каждый раз выглядел полнее прежнего. Бренная плоть словно захватывала его сердце и душу, пытаясь поглотить их. Том жаловался на сердце и посмеивался над животом.
— Помнишь, как ты хотел сделать из меня денди? — говорил он. — Ничего не поделаешь, каждому свое.
Я убеждал его, что живот — дело поправимое, ну а сердце — это у него от мнительности. Говоря откровенно, я уже не верил в “поправимость” живота Тома, но надеялся, что он сильно преувеличивает свой сердечный недуг. Поверил я в него лишь в один из моих последних приездов, когда он, нарушив слово, не пришел в “Панду” напротив здания ТАСС и позвонил по мобильному, сказав, что у него приступ. В “Панде” я обедал в полном одиночестве. Впервые...
Встречая меня в “Шереметьево”, сын осторожно спросил:
— Папа, ты ничего не знаешь?
Нехорошее предчувствие кольнуло меня в грудь.
— Умер Том Колесниченко.
— Когда?
— Вчера.
— Почему же ты не позвонил мне сразу в Миннеаполис?
— Чтобы ты спокойно летел...
Так я и летел спокойно, чтобы попасть с корабля на похороны и поминки Тома. Рассыпав красные розы по гробу, я не взглянул на лицо Тома. Не мог, не хотел. Я хотел, чтобы его лицо осталось в моей памяти таким, каким оно было в наши нью-йоркские годы — смеющиеся светлые глаза с безуминкой на лице, обрамленном поэтическими кудрями.
Прощаясь с ним на Кунцевском кладбище, я прошептал: “Том, ставь!”
Тихо, чтобы никто не услышал и не подумал, что я свихнулся или паясничаю...