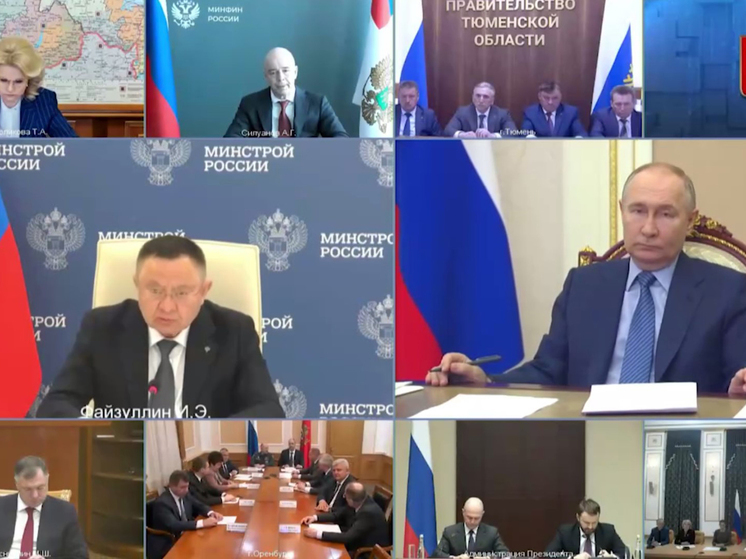Вторая половина октября была теплой и яркой. Особенно это было заметно за городом. Я жил тогда на большой деревянной даче в поселке Салтыковка.
Хозяева уехали проводить политику партии и правительства в далекие африканские джунгли, а меня ребята-сослуживцы пристроили туда жильцом и одновременно сторожем и истопником.
Каждое утро перед работой я топил печки-голландки, то же самое делал, вернувшись после трудового дня.
В моем распоряжении была огромная, относительно теплая застекленная терраса. Кроме того, мне оставили телевизор “Ленинград”, старую радиолу и приемник “Телефункен” с огромным количеством пластинок Апрелевского завода грамзаписи и рижской фирмы “Беллакорд”.
Можно было проехать три остановки на автобусе, но я шел пешком.
Я шел сквозь осенний лес, и настроение мое улучшалось с каждым шагом.
По дороге на службу я решил заглянуть в кафе “Водопад”, тем более что закрывалось это замечательное место первого ноября.
А кафе было действительно замечательное. Пристроилось оно на краю оврага, и на дно его с шумом падала вода из родничка.
Здесь можно было выпить пива и портвейна, который продавался в пятилитровых банках, и, конечно, водку, выдаваемую буфетчиком добрым знакомым.
Фирменным блюдом была яичница с колбасой и цыплята, жаренные на вертеле, которые привозили с Кучинской птицефабрики.
Любили мы с товарищами по работе зайти сюда и огорчить организм белым хлебным вином.
Еще не доходя до “Водопада” я почувствовал божественный запах жареного мяса.
В кафе за столиками — пивными бочками — сидели мой добрый товарищ шофер-дальнобойщик Костя Журавлев и четверо работяг с машиностроительного завода.
На мангале буфетчик жарил натуральные шпикачки, а стол у моих знакомцев был завален вяленой рыбой, солеными огурцами и крупно нарезанной колбасой.
— Давай, давай к нам, — весело заголосили они.
Я сел, один из работяг достал две поллитровки и лихо разлил по граненым стаканам.
— Ну, давай, с праздничком.
— С каким? — удивился я.
— Как с каким? — загалдели мои собутыльники. — Никиту-кукурузника скинули. Давай.
Мы дали. Закусили степенно.
— А за что вы его так не любите? — спросил я.
— Ты, парень, не из наших, не из рабочего класса, ты статейки раньше писал, теперь порядок наводишь, а мы — работяги.
Он протянул над столом сильные мозолистые руки.
— Я этими руками себе уважение завоевал и семью кормлю. А что этот пидор сделал? Цены поднял. На молоко, мясо.
— На водку, — трагически вмешался Костя Журавлев.
— И то верно. Деньги настоящие поменял на фантики, раньше сотня была купюрой, а с десяткой нынче один раз в магазин зайти. А когда работяги пошли свои права качать, он их из пулемета...
— Вот мы об этом говорим и ничего не боимся. Это нам Хрущев дал, а при Сталине...
— А что при Сталине, — оборвал меня собеседник. — Он рабочих не трогал, он наш класс уважал.
Спорить с ним было бесполезно, и мы выпили.
* * *
Возможно, в этот же яркий осенний день в сторону Усова бежала маленькая “Шкода” салатного цвета.
Молодая женщина, управлявшая машиной, прекрасно разбиралась в географии подмосковного номенклатурного заповедника.
Она остановила машину у самой главной дачи нашей страны.
А дальше начались заморочки. Офицеры КГБ, которые раньше охраняли человека, живущего на даче, теперь караулили его, поэтому получили строгий приказ никого к нему не пускать.
Но к вахте подошла подруга, которая сама и пригласила посетительницу.
Машину оставили у ворот и пошли по длинной дороге. Вошли в дом.
В огромной столовой за таким же огромным столом сидел старый лысый человек и горько плакал.
Еще несколько дней назад он руководил огромной страной и был Верховным главнокомандующим одной из самых боеспособных армий мира.
Всего несколько дней назад...
А сегодня, сквозь слезы, он говорил, что шел по ленинскому пути, а соратники его предали...
Маленький эпизод отставки...
Он плакал от горя — его лишили власти — и от обиды, жесткой и неожиданной, нанесенной людьми, которых он не очень-то и уважал.
“Если бы выставить в музее плачущего большевика...” — написал в свое время Владимир Маяковский.
Через десять лет эта молодая женщина стала моей женой и рассказала эту печальную историю.
Хрущев искренне и свято верил, что идет по пути, начертанному Лениным, как говорили ему всего лишь полгода назад его соратники в день его юбилея — 70-летия.
* * *
Я хорошо помню этот знаменитый апрель. Портретов Хрущева не было, пожалуй, лишь на дверях общественных туалетов, а так они висели везде, напоминая забытые сталинские времена, которые так осудил юбиляр.
Все было. И очередная Золотая Звезда, и торжественные собрания, и организованное ликование в колхозах и на заводах.
В колхозах тем торжественным апрелем мне побывать не удалось, а на заводах я был. Видел мрачных рабочих, слушавших потоки славословий, льющихся с трибун.
Они не простили юбиляру понижения расценок и повышения цен на мясо и молоко.
В этот день можно было вспомнить и вырубленные яблони в деревнях, и сданных на мясо коров после введения налогов на каждое дерево, каждую корову. На Востоке даже ишаков выгнали из родных дворов, и они слонялись по улицам селений.
Рабочие молчали, только группы скандирования, организованные из парткомсомольского актива, выкрикивали бодрые лозунги.
А на экранах телевизоров и в знаменитом документальном фильме “Наш Никита Сергеевич” соратники крепко обнимали юбиляра, сравнивая его с самим основоположником.
Они говорили, а заговор против “нашего” Никиты Сергеевича набирал обороты. Во главе его формально стоял Брежнев, а на самом деле политическую кашу варили комсомольцы, прорвавшиеся к власти во главе с Александром Шелепиным и Владимиром Семичастным.
Два председателя КГБ, один бывший, а другой действующий, были огромной политической силой. Тем более что Шелепин, уйдя из спецслужбы, стал влиятельным человеком в партии, ему подчинялись все органы партийного и государственного контроля.
Не так давно показывали по телевидению очередной фильм о трудной судьбе Никиты Хрущева. Авторы постоянно педалировали мысль, что вся история со знаменитой выставкой в Манеже была спровоцирована врагами руководителей партии, чтобы поссорить этого смиренного самаритянина с интеллигенцией.
Полноте! С кем его хотели поссорить? С десятком художников и писателей?
Никита Хрущев в мелочах был не из тех людей, которым можно было внушить чужое мнение. Ему действительно не понравились выставленные картины, и его мнение поддерживал президент Академии художеств Серов. А что касается молодых писателей, он их не читал и не собирался этого делать. Просто они, как любили говорить в те годы, не “разоружились перед партией”.
Для руководителя КПСС подлинной интеллигенцией был зал, полный творцов социалистического реализма.
Мне в свое время пришлось увидеть этих людей вблизи и услышать их пламенные выступления.
По заданию редакции я поехал в Театр киноактера, где собрались жаждущие крови Бориса Пастернака авторы трескучих поэм, романов о рабочем классе и трудовом крестьянстве.
Что они говорили! Мне даже не верилось, что эти люди именуют себя “инженерами человеческих душ”.
И только выйдя на улицу Воровского после завершения спектакля всенародного обсуждения, я понял, что все эти люди смертельно завидовали Борису Пастернаку.
Не они, а он получил самую престижную в мире премию за литературу — Нобелевскую и мировое признание, и именно это делало прекрасного поэта врагом творцов, объединенных Союзом писателей.
После своего юбилея Хрущев еще давал указания, которые старались по мере сил не выполнять, собирал совещания, ругал матерно соратников, а те, боясь, что не доживут до дня переворота на своих постах, восхваляли его политическую прозорливость.
Ему говорили о заговоре. Его предупреждали сын и бывший управделами ЦК КПСС Валентин Пивоваров. Но Хрущев вспоминал льстивые лица своих соратников и не мог поверить, что эта шваль способна на какие-то действия против него.
Он не знал, что Брежнев и Семичастный даже серьезно обсуждали возможность его физического устранения.
Проигрывали варианты: отравление, авиационная катастрофа, арест во время его поездки в Ленинград.
Но они сами испугались своих планов, особенно Семичастный, который был всего лишь типичным комсомольским интриганом. И они сделали ставку на дворцовый переворот.
Ранее такой переворот мог произойти на заседании Президиума ЦК КПСС перед июльским пленумом 1956 года.
Тогда Хрущева спасли два человека: министр обороны маршал Жуков и председатель КГБ генерал Серов.
На этих людей Хрущев мог опереться в любое время, поэтому заговор развивался поэтапно: сначала отправили в отставку маршала Жукова, потом разжаловали и выслали в Приволжский военный округ генерала Серова. Хрущев остался один, как ростовая мишень в поле.
Был еще один генерал, министр охраны общественного порядка Вадим Тикунов, но заговорщикам не надо было его убирать, Никита Сергеевич сам нажил в нем злейшего врага.
* * *
Глава государства вызвал к себе министра Тикунова. Не поздоровавшись, что, кстати, было в его манере, он сразу же начал орать на генерала:
— Ты кто, генерал-лейтенант?
— Так точно, — пролепетал генерал.
— А ты знаешь, как мы таких, как ты, разжалуем? Был генерал-лейтенант, станешь подполковником.
— Чем я провинился, Никита Сергеевич?
— Да у тебя в Москве воры хозяевами города стали. Обокрали квартиру моего помощника, кандидата в члены Президиума ЦК. Срок тебе десять дней. У меня все.
* * *
Вадим Тикунов был человеком не сильно храбрым, а тут такое услышать от самого Хрущева.
Когда Брежнев расформировал МООП и создал МВД СССР, генерала Тикунова отправили советником в Болгарию, там, крепко выпив, он и передал в красках разговор с Хрущевым.
* * *
Тикунов приехал на Огарева и вызвал начальника МУРа полковника Волкова.
Он не кричал и не ругался, а просил главного московского сыщика раскрыть кражу на Кутузовском.
Волков не стал докладывать министру, видимо, не желая расстраивать его, что обнесли квартиру на Кутузовском точно так же, как еще пять квартир весьма солидных людей.
Ввиду того, что кража эта была взята на столь высокий контроль, Анатолий Волков бросил на ее раскрытие лучших оперов МУРа.
В 75-м отделении милиции был создан оперативный штаб, которым руководил начальник отдела МУРа опытный сыщик Сергей Бурцев. Описание вещей передали во все скупки, ломбарды, комиссионки. Опера объехали всех скупщиков краденого и пообещали жестокую и скорую расправу, если они не сообщат немедленно, когда урки притащат им барахло.
Агент Бурцева на катране у Даниловского рынка приметил пижонистого парня с тоненькими усиками, который, спустив деньги и часы, поставил на кон костюм, который очень походил на одну из разыскиваемых вещей. Часы тоже были среди похищенных вещей, о которых на контрольной встрече говорил ему Бурцев.
Пижон, проиграв костюм, сказал, что заканчивает игру, и уехал.
— Фраернулся я, — сказал хозяин катрана, — хоть костюм этот мне почти даром достался, никакого навара я с него иметь не буду.
— А ты продай его мне, да и часики я бы взял заодно.
— Бери. Только зачем тебе костюм-то, он не твоего размера.
— Сеструха мужу обнову ищет, а котел я человечку снесу, оценю и лаве тебе верну.
Выйдя с катрана, агент позвонил Бурцеву. Все совпало. Костюм по описанию точно походил на украденный на Кутузовском проспекте, а часы предположительно были с другой кражи.
На следующий день один из потерпевших часы опознал, а костюм Бурцев сам понес партийному деятелю.
Он не только узнал свой костюм, но и рассказал Бурцеву, что шил его у очень хорошего мастера в Швейцарии.
Агенту поручили выяснить, кто был тот игрок, прокатавший костюм и часы.
Его установили быстро. Витя в игроцких кругах проходил под кличкой Художник, что и соответствовало его профессии: он работал живописцем в кинотеатре “Центральный”.
В МУРе Витя Художник ничего отрицать не стал.
Да, костюм и часы он проиграл, потому что никогда не носит и не продает выигранные вещи. Едет на игру и ставит их, пока не проиграет.
— А где вы взяли костюм и часы? — спросил Бурцев.
— Выиграл в железку в баре “Пильзень” в Парке культуры.
— У кого?
— Я с девушкой был, а к нам компания подсела. Прикинутые. Не помню как, но они предложили мне зарядить в железку.
Зарядили, и тут мне покатило. Я у них выиграл триста рублей, вот этот костюм и часы.
— А вы этих парней знаете?
— Видел в первый раз. Одного звали Леша, второго Борис. Ребята непростые, судя по разговору, папаши у них — шишки. Леша, как я понял, учится в Международном.
— Послушайте, — вмешался Волков, присутствовавший при допросе, — вы же художник. Сможете их нарисовать?
— А плотная бумага и хороший карандаш найдутся?
— Все сделаем для вас, дорогой товарищ Репин, — засмеялся Волков.
Через час рисунки были готовы.
На следующий день установили студента Института международных отношений по имени Алексей и его дружка Бориса.
Действительно, их отцы были весьма крупными шишками.
Но сыщикам повезло, что родители построили своим детям кооперативные квартиры.
Там при обыске и были найдены похищенные вещи. Оба парня были в центре московской номенклатурной жизни, бывали в домах министров, цековских работников, генералов. Любыми путями они старались сделать слепки с ключей.
Оставался вопрос: как попасть незамеченными в номенклатурный дом? Вот тут-то появлялся третий и самый главный персонаж этой истории, некто Станислав. Отец его когда-то был крупным военным. Сын окончил училище, но из армии вылетел за пьянку и растрату.
Отец устроил его в фельдсвязь, но и там Станислав не удержался.
После смерти отца он придумал, как обносить квартиры большого начальства. На кого вахтерши не обратят внимания? На фельдъегеря.
Дело было раскрыто за девять дней.
Счастливый Тикунов позвонил в Кремль, сказал, что задание выполнено и он готов доложить об этом Никите Сергеевичу. Министру ответили, что Хрущев улетел в отпуск. Если бы Тикунов знал, что с юга вернется не грозный Хозяин, а плачущий пенсионер, он, наверно, не стал бы торопиться.
* * *
Об эре Хрущева можно говорить разное, но есть одно, что нельзя отобрать у него. Сам того не зная, он дал нам надежду.
Как журналист я объездил многие ударные стройки. Работал на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, на Целине. Я видел, как вкалывали там молодые ребята, поверившие Никите Хрущеву.
Они твердо знали, что, проложив еще один километр рельс, перекрыв еще одну реку, вспахав еще одно целинное поле, мы непременно придем к коммунизму, обещанному Генсеком в 1980 году.
Говорят, что надежда умирает последней.
Они работали и надеялись. Они еще не знали, что надежда может умирать первой.