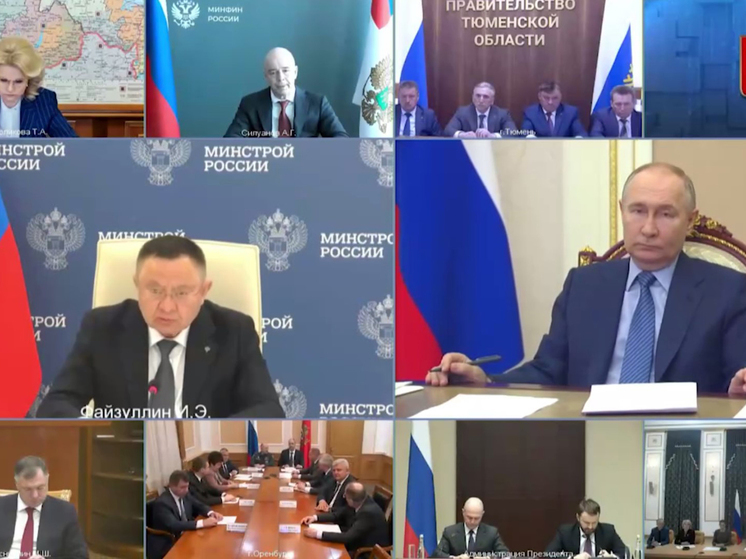Скромность украшает, конечно. Но это уже перебор. Разве можно так отрываться от коллектива?
На светских вечеринках, как настоящие деятели искусств, лицом не светит, в телевизоре байки не травит. Сенсационными заявлениями прессу не заваливает.
Ни с кем не судится даже! Разве это артист? Он даже машины собственной не имеет — в метро катается! Ужас просто…
Но вот наконец пришла слава. Во всех информагентствах: “известного актера Альберта Филозова избили и ограбили…” Вспомнили наконец. Того, кто просто работает. Играет в театре, снимается в кино. Растит двух маленьких дочерей. А в понедельник очень скромно, без всякого пафоса отметит 70-летие.
За несколько дней до юбилея сидим в гримерке Филозова. До очередного спектакля — ровно час.
— Альберт Леонидович, о чем думает артист за час до спектакля? О создаваемом образе? Или о том, ну не знаю, что дома кран протекает, что дочка снова “двойку” принесла, а жене опять нужно покупать новые туфли?
— Нет, когда спектакль уже идет, когда это не премьера, я просто просматриваю текст, чтобы восстановить его в памяти, — только и всего. Если думать о делах житейских, вообще нельзя выходить на сцену.
— А если какая-то проблема сидит в голове и от нее не избавиться?
— Не сидит.
— Да вы счастливый человек!
— Нет, у меня в голове много проблем, но, когда наступает пора выходить на сцену, когда начинаю гримироваться, все куда-то вылетает.
— Не пойму: романтик вы или прагматик? Парите в облаках или твердо на земле грешной стоите?
— Нет, я достаточно реальный человек, слова “романтика” вообще не люблю и никогда его не любил…
— Артисты должны любить, они такие тонкие натуры, такие возвышенные.
— Кто-то сказал, что театр как раз очень грубое искусство, в отличие от поэзии, скажем, живописи. Играть поэзию на сцене нельзя. И атмосферу играть нельзя. Она рождается от сопоставления бытовых простых вещей, от их соотношения. В этом как раз и прелесть театра, его магия.
— Это уже слова романтика.
— Нет, это слова профессионала.
— Честно говоря, так и думал, что вы такой — зритель всегда ведь судит об актерах по ролям. Вам в кино доставались сплошь бесхарактерные, бесхребетные, слабовольные псевдоинтеллигенты, а иногда и просто негодяи. Тут какие-то параллели уместны?
— Ну, я думаю, в каждом человеке намешано всего. И проявляются люди порой только в самых неожиданных ситуациях. Когда из них выходит то, чего, казалось бы, не ждешь. Все удивляются, а на самом деле…
— Вы сами себя часто удивляете?
— Сам себя — не знаю. Зрители порой удивляются, видя меня, так скажем, в естественных условиях. Я ведь в жизни более жесткий, чем в тех ролях, которые мне предлагают.
— И поэтому несанкционированные встречи со зрителями — штука для вас неприятная?
— Да. Редко встречаются люди, которые понимают, что вторгаться в частную жизнь не стоит. Если просят автограф, я обычно не отказываю. Но когда нагло просто тебя разглядывают, это крайне неприятно. Я езжу в метро, поэтому чаще всего утыкаюсь в книгу, натягиваю кепку на лоб и стараюсь не обращать ни на кого внимания.
— Давите в себе неприятные эмоции? Не выпускаете их наружу?
— Да, не могу. Меня все это раздражает, я злюсь, но понимаю, что нельзя разочаровывать зрителя. Потому что они думают, что я мягкий и пушистый, а вдруг злой и неприятный.
— То есть на самом деле вы злой и неприятный, но никто об этом не знает.
— Да! (Смеется.)
“На улицу ночью больше не выйду”
— А чего на свете вы больше всего боитесь?
— Я вообще очень не люблю, когда меня обманывают. Потому что самая неприятная правда не так убивает, как самая сладкая ложь. Когда ты понимаешь, что это ложь.
— О чем вы: на рынке, что ли, недовешивают или гонорар обещают один, а выплачивают другой?
— Нет, рынок есть рынок. А насчет гонораров я никогда не торгуюсь, все вроде знают уже, кто чего стоит. Имею в виду, если обманывают… м-м-м… даже близкие, даже дети. Когда говорят что-то и не выполняют.
— Сами вы, конечно, без греха?
— Я стараюсь слов на ветер не бросать. Редко на самом деле говорю: да, я это сделаю, скажу скорее: нет, не могу. Дети просят что-то, я говорю: нет, у меня сейчас нет денег… Правда, через полчаса их жалко становится, и я все равно им покупаю эту вещь.
— Боитесь, значит, быть обманутым. А вечером после спектакля домой возвращаться не боитесь? Вас ведь недавно ограбили…
— Теперь боюсь. Конечно, боюсь. Но меня возят, слава богу, до подъезда. А что делать — у нас страна такая. Я был в Западном Берлине, мы снимали там в 82-м году — нам говорили: это самый криминальный город в мире. Я ходил по ночам там, гулял — ничего со мной не случалось. Только что мы были на гастролях в Хельсинки, я гулял после спектакля по берегу Финского залива, один, в первом часу ночи — ничего не боялся. Так замечательно, так тихо, спокойно. А в Москве ночью никогда больше не выйду…
— У вас же, если не ошибаюсь, не первая такая неприятность?
— Ну да, если это можно назвать неприятностью. Практически один в один было. В подъезде дома. Сзади просто придушили меня — я потерял сознание…
— Кошмар какой-то. Сразу после недавнего случая вы говорили, что не помните, как все произошло, — понимаю, шоковое состояние. Сейчас картинка прорисовывается?
— Нет, так же ничего не помню.
— Писали, что поначалу вы не могли вспомнить даже имени своего, жену не узнавали.
— Это глупости. Ну да, было у меня сотрясение мозга. Конечно, лица этих бандитов я не запомнил. Но, слава богу, жену и себя я пока еще не забыл.
— Не знаете, преступников поймали?
— Нет, не знаю.
"Сам в себя не очень-то я верю”
— Забудем о плохом и вспомним хорошее. Я видел много ваших фильмов, но совершенно не помню ваши молодые роли. Напомните, пожалуйста.
— А вы и не вспомните. Снялся я впервые в 71-м году, мне было 34 года…
— Как говорили, поздновато начинаете.
— Ну да, я поздно начал. Хотя еще в 58-м году, когда учился на третьем курсе, на Одесской киностудии меня утвердили в фильме “Зеленый фургон” на главную роль. Они обещали договориться со школой-студией — у нас же выгоняли за съемки в картинах, Дружникова в свое время за это даже выперли, и я очень боялся, что меня ждет такая же судьба. Поэтому, когда прилетел в Одессу подписывать договор, сразу попросил у них обратный билет на самолет: на киностудию даже не поехал, все происходило прямо на аэродроме. Первым делом спрашиваю: вы договорились? Отвечают: мы договоримся, не волнуйся, через ЦК комсомола и так далее. И тут я понял, что меня обманывают. Весь договор мы заполнили, мне оставалось только закорючку поставить. И вдруг я от них как рвану! Пробежал через все летное поле. За мною милиция, киношники эти. Уже вращается мотор, уже самолет готов к взлету. “Я опоздавший! — кричу. — Вот билет!” Там руками разводят: “Ты что, как мы тебя возьмем, трап уже убрали”. “Ничего, — говорю, — я сам”. Кинул в салон свой чемоданчик, подпрыгнул, ухватился за борт. И все — дверь закрылась, и мы поехали.
— Как же все-таки внешность обманчива — по вам и не скажешь, что готовы на безумства.
— Ага, вот именно — безумство. Потому что после этого 10 лет меня не снимали. Просто как наказание судьбы.
— Получается, сами убежали от славы?
— Не знаю, как от славы, от кинокарьеры точно убежал.
— Она вас догнала. Но не досадно, что режиссеры видят только одного Филозова и совсем не хотят замечать другого? Наверняка же думали сыграть героя-любовника, отчаянного смельчака, совершающего подвиги?
— Нет, героем-любовником мне никогда не хотелось быть. У нас в школе-студии очень жесткая была градация, за каждым закреплялось определенное амплуа. Мне сказали: ты — характерный герой. И я точно уже знал свое место, знал: чего могу, а чего нет.
— Прежде чем убедиться, что не дано, надо хотя бы попробовать.
— Нет, я абсолютно точно знаю, что не дано. Когда меня пытаются в том или ином качестве пробовать, я, конечно, как любой слабый человек, иду, но ничего хорошего из этого обычно не получается. Был такой фильм “Расмус-бродяга”, где я играл бродячего певца, пробовали меня нормального: с всклокоченными волосами, с бородой своей. А потом режиссер почему-то решил сделать из меня эдакого красавца: на меня напялили парик, гладко выбрили, покрасили ресницы. И что — в результате меня озвучил Олег Даль, своим голосом звонким. Так же и в “Тегеране-43”. Конечно, мне хотелось пострелять, я говорил: ну давайте что-нибудь злодейское сделаем. Там, правда, меня сразу раскусили: ты же не умеешь стрелять, говорят, это сразу видно; кто, скажи, поверит, что ты убийца?
— Значит, такой реальный вы и земной, все про себя знаете. Наверное, и то, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе? Не секрет же, что “Школа современной пьесы”, где из маститых только вы да Алферова, — далеко не самый ведущий театр Москвы.
— Я не мог бы работать, скажем, в “Современнике”, где очень жесткие правила. Я ушел из Театра Станиславского, когда пришлось подменять активно снимающегося Леонова. Я не пошел на Таганку, где Любимов предложил ввестись на Свидригайлова — то, что играл Володя Высоцкий. Вводы — вообще неприятная штука, самая неприятная, наверное, в нашей профессии. А здесь мне просто комфортнее, я знаю, что в меня верят. Потому что сам в себя, честно говоря, я не очень-то верю…
“Не знаю, что такое отец”
— Скажите, а вы верите в судьбу, в фатум, в рок?
— Конечно, верю, как не верить. Я вообще никогда никуда не пробивался, все складывалось как-то само собой. Я не собирался поступать в театральный, вообще становиться актером — МХАТ приехал на гастроли в Свердловск, объявили набор, друзья меня затащили — так из провинциального города я попал в Москву. Более того, я не собирался оставаться в столице, понимал, что на курсе есть более достойные люди: Саша Лазарев, Толя Ромашин, Слава Невинный — меня пригласили в Театр Станиславского. Я не пробивался в “Школу современной пьесы”, Райхельгауз пришел и просто сказал: порепетируй с Любой Полищук “Пришел мужчина к женщине” — с этого, собственно, и начался театр.
— То, что вашего отца расстреляли в 37-м году, это ведь тоже определенный знак судьбы?
— Ну а что делать — я же не единственный такой. У нас в Свердловске через двор забирали: дворника — у него ложку нашли золотую, соседа — за анекдот политический…
— Но это не лежит камнем на сердце, вы не стали злее?
— Не стал. Наверное, потому что я не знаю этого чувства, я не знаю, что такое отец. Его забрали, когда мне было три месяца.
— Даже не знаете, за что?
— Ну как за что: он приехал из Польши — значит, польский шпион, только и всего. А он комсомолец был, приехал в страну победившего социализма. Бабка рассказывала, что добрый был, хороший, никто в семье не верил, что он мог чего-то такое замышлять.
— Успели почувствовать, что значит быть “сыном врага народа”?
— Практически нет. Единственное — я долго не вступал в комсомол, не подавал заявление, считал, что недостоин. И лишь когда умер Сталин в 53-м году, я решил, что надо страну спасать, теперь уж надо.
— Вашего отца расстреляли, а вы, мне рассказывали, служили в “Матросской Тишине”, охраняли зэков. И это уже не просто судьба — ирония судьбы?
— Да никаких зэков я не охранял, служил там полгода в полку связи. Это сын мой попал во внутренние войска, я приезжал к нему в лагерь. Сначала он перевозил зэков в вагонах этих столыпинских, потом на вышке стоял. Но у него, как ни странно, о зэках лучше осталось впечатление, чем о конвоирах.
— Сейчас с сыном общаетесь, он же от предыдущего брака?
— Конечно, общаемся. Никаких ссор из-за того, что расстался с его мамой, между нами не было. Но у меня и с женой предыдущей отношения нормальные.
— Сейчас у вас две дочки. Сколько им?
— Одной тринадцать, другой восемь.
— У вас спектакль был такой “Взрослая дочь молодого человека”. Сейчас наоборот — маленькие дочки взрослого человека. И каково это?
— Это замечательно. У меня внуков пока еще нет, но я уже понимаю, почему дедушки любят внуков больше, чем детей. В молодости мы заняты своей карьерой, заняты собой, нам некогда замечать, что есть еще нечто прекрасное в жизни — наши дети. Сейчас, конечно, другое дело.
— Знаете, Анатолий Равикович, у которого тоже поздняя дочка, вздыхал: ну кто я для нее — дедушка на печке. Ваши такие же?
— Нет, слава богу, я для них папа. Более того, у нас случай был, когда дочь в магазине что-то рассматривала, продавец говорит: ну попроси дедушку купить. Она не поняла: о чем речь, какого дедушку? Да ну что вы — я ведь младшую еще и поднять могу. Со старшей, правда, сложнее.
“Когда дочка сыграла “Жили у бабуси”, я был счастлив”
— Какие с девчонками самые большие проблемы?
— Ой, самые большие проблемы — это уложить их спать. Болтать друг с дружкой могут без умолку.
— Приходится воспитывать отцовским ремнем?
— Нет, с ремнем я не бегаю, но приходится много раз повторять, а иногда даже и прикрикивать. Включать свет, потом снова выключать — и так бесчисленное количество раз. Угрожать: завтра не будете смотреть мультики…
— Мне почему-то кажется, они не боятся отцовского крика. Не больно-то вы страшный.
— Ну как сказать. Старшая иногда слышит, слушается. А младшая — просто не слышит. Поэтому на нее и не кричу никогда. Она не понимает крика. Если старшую, Настю, мы угнетали иногда, наказывали, то Анечку — никогда, даже пальцем никто не тронул. И это правильно на самом деле, я понял — поздно, правда, — но понял, что детей наказывать нельзя.
— Зато в ГИТИСе на студентах наверняка отрываетесь по полной?
— Нет, никогда.
— Они вас любят, как думаете?
— Представления не имею. Мне гораздо важнее их успехи в профессии, это меня радует, их характер меня мало интересует.
— А что вам нужно от дочерей?
— От дочерей мне нужно, чтобы они научились хоть что-нибудь делать и полюбили что-нибудь делать. В жизни только это может спасти от крушения. Когда мне плохо, меня спасает сцена, театр — здесь я отдыхаю от жизненных невзгод.
— Но сейчас ваши дочери, наверное, умеют только на компьютере играть?
— Не играют, я им не покупаю компьютер. Они учатся в музыкальной школе, маленькая уже год занимается скрипкой, уже был первый концерт, она играла “Жили у бабуси два веселых гуся”. И я был счастлив! Не потому, что хочу сделать из нее скрипачку. А потому, что это колоссальный труд, она научится трудиться. Старшая учится на вокальном отделении и занимается фортепиано. И я хочу, чтобы она овладела этим инструментом, — тоже не для того, чтобы стать великой пианисткой, ей уже поздно, а потому что это привычка к труду.
— Почему тогда обязательно пианино? А если бы они научились замечательно стричь или кашеварить, как бы на это посмотрели?
— Не знаю, как насчет стричь, но моя маленькая сама в 8 лет научилась шить куклам платья. Никто ее этому не учил, жена моя с иголкой обращаться не умеет, старшая дочь — тоже. Я, правда, умею. Но это уже совсем другой разговор…