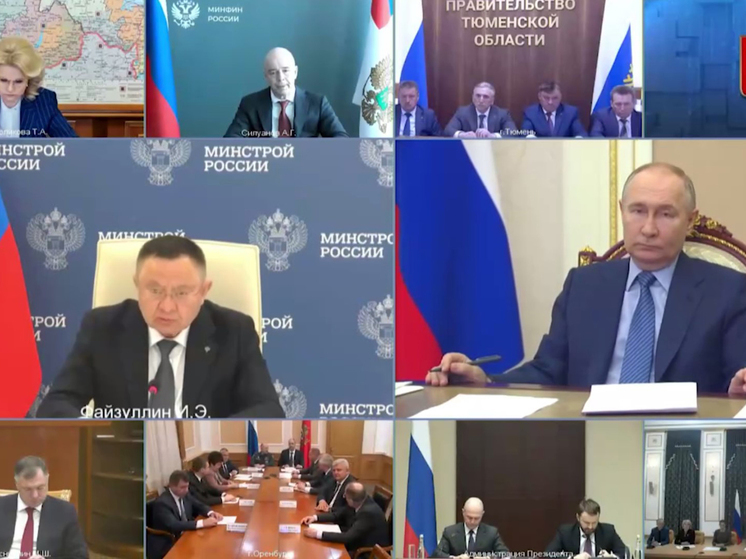В начале лета Светлана Михайловна взяла себе за правило через каждые два шага останавливаться и хвататься за сердце. А к концу лета уже и через один.
Решились на коронарографию.
Светлана Михайловна легкомысленно рассчитывала на то, что обойдется ангиопластикой, то есть: если во время коронарографического исследования выяснится, что сосуды сердца “забиты”, их подлатают — и можно ходить на танцы.
Доктор Кавтеладзе вышел из операционной со словами: “Нужна срочная операция, жизненный ресурс...” — и соединил большой и указательный палец таким образом, что перед моим носом нарисовался ноль.
Операция на открытом сердце, то есть коронарное шунтирование.
А как же танцы?
А очередь в тюрьму?
Светлана Михайловна — адвокат со старинной привычкой посещать своих подзащитных в тюрьме не раз и не два, а столько, сколько нужно. А там очередь. И на всю очередь — ни одного стула.
Умный человек сказал: “Идите к профессору Сыркину. Он про сердце знает все...”
Сыркин сказал: “Операцию нужно было делать вчера”.
Но ко всем прочим прелестям у Светланы Михайловны оказалась сужена сонная артерия. И не всякий хирург готов вступить на такое поле брани.
Доктор Белов, рекомендованный всеми московскими светилами, сказал, что это еще не самый коварный случай, и назвал день операции.
А на обратном пути Светлана Михайловна шла и думала, что операцию сделают, а выходить не выходят. Операция на открытом сердце, а потом одна падающая с ног медсестра на длинный-длинный коридор.
И не было человека в белом халате, который не опустил бы глаза в ответ на вопрос о послеоперационном уходе.
Выходить тяжелобольного — такая же сложная операция, только длится она не несколько часов, а много дней. А сиделок у нас нет. Вопилки есть, кричалки есть, а сиделок нет, то есть институт выхаживания больных отсутствует как таковой. И полагаться можно только на случай, то есть на то, что попадется не заезженная жизнью, больными детьми, пьющим мужем, нищая, но добрая медицинская сестра. Стоимостью тридцать долларов в месяц.
Выход?
Ехать за границу.
И там, конечно, не все медом намазано, и оттуда привозят с осложнениями, из которых вытягивают наши хирурги, но опять-таки: таких случаев существенно меньше, чем стопроцентно удачных. Даже у нас со Светланой Михайловной оказалось немало знакомых, вернувшихся из Америки, Израиля и Германии с самыми впечатляющими результатами.
Отправили запрос в Ганновер, доктору Акселю Хавериху.
Ответ пришел быстро: доктор Хаверих за операцию берется, стоимость пребывания в клинике 32—38 тысяч евро.
Первые несколько дней разговор на эту тему казался марсианским бредом. Таких денег у Светланы Михайловны нет и никогда не было, а смешные сбережения на черный день — их, как выяснилось, хватило бы на два дня в европейской клинике. Однако у всякого скверного события есть оборотная сторона. На оборотной стороне известия о болезни Светланы Михайловны оказались написаны имена ее друзей и родных.
И деньги на операцию собрали.
Двадцать четвертого ноября мы с ней сели в поезд и поехали в город Ганновер.
Поезд уже полз вдоль перрона, а мы с замиранием сердца глядели в окно: встречают или нет? Из Москвы заказали машину “скорой помощи”, стоила она чуть меньше железнодорожного билета, 180 долларов. Как потом выяснилось, “скорая” стоила 100 долларов, а еще 80 взяла за свои услуги московская фирма, но правду узнать можно только на месте или — что проще всего — связаться с немецкой “скорой помощью” напрямую, а мы были не в том состоянии, чтобы совершать правильные поступки.
Нас ждали у выхода из вагона, и через пять минут мы оказались около машины. Светлану Михайловну бережно довезли на кресле с колесиками, предварительно укутав шерстяным пледом. Потом отворились задние двери, спустился металлический подъемник — и вот уже трясущаяся от неизвестности Светлана Михайловна пристегнута ремнями безопасности, а под моим стулом включено отопление, все-таки шесть часов утра.
Кто ездил в московских “скорых”, тот знает: и кресло, и носилки летают по салону, как на ралли. Короче, приезжаем, заходим в приемный покой, а нам говорят: гутен морген, только вы не туда приехали. Высших медицинских школ в Ганновере две. Приезжаем во вторую. Гутен морген, раздевайтесь, проходите, помашите ручкой “скорой помощи”. Мы помахали, машина уехала — и тут выясняется, что надо нам все-таки в ту клинику, в которую мы приехали вначале. Ничего особенного, но ранним утром в незнакомом городе, в чужой стране...
Тем не менее ровно в 8.15, как и было назначено, мы оказались в одноместной палате на восьмом этаже “Медицинише хохшуле”.
Светлану Михайловну накормили завтраком и тут же повели на обследование, а я поехала в гостиницу. Приехали мы двадцать шестого, а операцию назначили на двадцать восьмое.
Вечером, накануне операции, в палату один за другим потянулись врачи. Разные, человек десять. Все приходили со своими бумагами, объясняли, за что отвечают, улыбались.
Мы разговаривали, как аборигены с острова Пасхи: Светлана Михайловна по-немецки, который она понимает, если произносить по складам, а я — на чудовищном английском. Задача у всех наших посетителей была одна: Светлана Михайловна должна была расписаться в том, что оповещена о возможном летальном исходе. Особенно запомнились два молодых человека, которые разложили на столе картинки с изображением сердца. Показывая ручкой очередной сердечный сосуд, доктор говорил: “капут”, второй кивал головой, и все мы дружно и понимающе улыбались друг другу. Сказали, что поставят три шунта.
Через час пришли и сказали, что шунтов будет четыре.
Просили быть готовыми к семи часам утра.
Без одной минуты семь человек с сотней косичек, утонувший в веселой рыжей бороде, погрузил нас в лифт, и мы спустились на четвертый этаж. Рука Светланы Михайловны, лежавшая на каталке как бы отдельно от нее, была то голубой, то зеленой. Он подвез каталку к огромным прозрачным дверям и знаками дал понять, что пора целоваться на прощание. Ей-то что, подумала я, ее сейчас повезут в операционную, дадут наркоз — и все. А я останусь здесь. А вдруг мы больше не увидимся? Рука, которой я ей махала, тоже стала зеленой.
Двери бесшумно сомкнулись, и я опустилась на холодное красное сиденье.
Сказали, что к двенадцати, может быть, операция закончится.
Через два часа люди, проходившие мимо, стали смотреть на меня как на цирковую собаку, которая забыла, чему ее учили, и лает невпопад. При каждом дверном скрипе мои глаза вылезали из орбит, и я зачем-то вставала, прижимая к груди свою дурацкую сумку, в которой были все наши деньги, паспорта и билеты. Потом я увидела, что сижу напротив кабинета профессора Хавериха. За два часа я заглянула туда не больше десяти раз. Наконец помощница Хавериха, фрау Лоуэ, вышла в коридор и сказала мне, что здесь сидеть нельзя, что в Германии не принято торчать у дверей операционной, что лучше мне пойти вниз и выпить кофе и что вообще фрау Светлану повезут назад через другую дверь.
Пока я соображала, о чем речь, в коридоре появились три врача. Я подумала, что они наверняка знают, как идет операция, и приготовилась к прыжку, но они заговорили по-русски. Оказалось, что это врачи из Петербургского НИИ скорой помощи и заведующий кафедрой факультетской хирургии из Петрозаводского университета. Они сказали, что эта клиника — крупнейший в Европе центр по пересадке органов. Они тоже посоветовали мне выпить кофе.
Опускаю рассказ о том, как я искала отделение реанимации и как врачи долго и тщетно пытались уяснить, как я туда попала.
На другой день Светлану Михайловну перевели в обычную палату.
Много позже, когда она пришла в себя и смогла улыбнуться, я сказала ей, что после операции она похожа на рождественскую индейку. А издали шов на груди походил на “молнию” на модной куртке. Но это было позже, а пока выяснилось, что оставлять ее одну нельзя, и я сказала, что, если можно, останусь на ночь.
Я была уверена в том, что меня возьмут за ворот и без лишних слов выведут на лужайку перед клиникой. С какой стати я, посторонний человек... Проблема, оказалось, в другом. Где я буду спать? На стуле. Зачем на стуле, когда удобней спать на кровати? Да, на кровати удобней. Мы бы вам поставили кровать, но в договоре об оплате сказано, что фрау Светлана Михайловна будет находиться в одноместной палате, с одной кроватью. Я подписала бумагу о том, что вторая кровать не нарушает мировой гармонии. В процессе подписания меня спросили: а дорого ли в России стоят услуги сиделки, сопровождающей больного человека в другую страну? В Германии это дорогое удовольствие, и, очевидно, фрау Светлана состоятельная дама...
— А у нас, — сказала я, — услуги сиделки ничего не стоят, потому что в России нет сиделок. А я — друг, и могу спать на стуле. А у Светланы Михайловны годами жили дома люди, которых она вызволяла из тюрем. А в прошлом году у нее все лето жила мать ее подзащитного, поскольку она приехала из другого города, а денег на гостиницу у нее не было. Так что еще вопрос, кто кому должен платить деньги.
— Понятно, — сказали мне. — Значит, вы не будете жаловаться, если мы поставим для вас кровать в одноместную палату фрау Светланы?
И, лежа на этой кровати, я ночь за ночью пыталась разгадать хитроумные немецкие загадки.
Почему родственников больных здесь воспринимают как друзей и помощников, а не выжигают каленым железом и не заставляют мыть полы и туалеты?
Почему полы и туалеты блистают чистотой, хотя в отделение можно входить не только в уличной обуви, но и в верхней одежде?
Почему в каждой палате есть специальный шкаф с бинтами, шприцами, иглами, салфетками, клеенками, и медсестре приходится только заглянуть в досье больного — что нужно, у нее всегда под рукой?
Почему красная кнопка на пульте вызова медицинского персонала раскаляется добела, а персонал тем не менее появляется по первому требованию, а если не очень срочно — приходят и извиняются, что пришли через несколько минут.
Почему залитое кровью постельное белье меняют, если нужно, десять раз в день? Моя приятельница сейчас лежит в московской больнице, тоже после операции. На просьбу сменить белье получен был ответ, что кастелянша три дня выходная, и какой смысл его менять, если кровь идет постоянно?..
Почему врачи и младший медицинский персонал терпят любые капризы больных, гладят по голове и шепчут в ухо, что скоро все равно все будет хорошо?
Почему уборщица Аврора все время улыбается и почему человеку, которому делали операцию на открытом сердце, есть до этого дело и он ждет, когда придет Аврора и улыбнется?
Почему средний медицинский персонал умеет работать со сложной техникой, почему этой техники много и почему каждый знает больше, чем ему вроде бы положено по статусу? Никакой неразберихи, постоянная мобильная связь со всеми службами, на все вопросы есть ответы.
Почему все постоянно спрашивали нас: неужели вы приехали из России только на операцию?
Почему не было человека, который не сказал бы нам: у вас в России превосходные врачи, но плохая техника и нет порядка?
Однажды, когда нам принесли на обед какой-то неизвестный, но очень вкусный салат, а потом тушеную индейку, а потом фрукты, а потом свежесваренный кофе, а у меня деликатно поинтересовались: вдруг я хочу чаю? — Светлана Михайловна, сидя на кровати, которая поднимается, опускается, наклоняется и только не играет и не поет, — так вот, сидя на этой кровати, Светлана Михайловна вдруг ни к селу ни к городу сказала:
— Так кто проиграл войну, Оля?..
На другой день после операции мы со Светланой Михайловной в первый раз прошли по коридору. Профессор Хаверих увидел нас и сделал вид, что падает в обморок.
Ах, как красиво украшен к Рождеству Ганновер, как славно пиликает старая шарманка, как вкусно пахнет глинтвейн на площади перед вокзалом... Как странно, что из всего этого детского рая с пряниками, украшенными белой глазурью, со сверкающей каруселью и деревянными трубочистами, мне прожигают память не они и не бенгальские огни, а инвалиды, которые могут сами добраться куда угодно, спуститься на специальном лифте в метро, подняться на выдвижных ступенях в трамвай, заехать в любой магазин, ресторан и, наконец, просто погонять по площади, приладив к подлокотникам разноцветные флажки.
Один из таких счастливых инвалидов, объясняя мне, как добраться до клиники, сказал:
— Вы откуда? Из России? Путин? Какой ужас случился у вас на спектакле “Норд-Ост”!
— Ужас, — ответила я. — Вы не можете себе представить.
— Могу, — уверенно сказал он. — Я ездил в гости в Америку, и там террористы устроили взрыв в универмаге, а я покупал друзьям подарки. Вот, остался без ноги...
Я достала из сумки последнюю московскую шоколадку “Аленка” и протянула ему.
Он с удовольствием взял, сделал руку кренделем и произнес:
— А не выпить ли нам по стаканчику глинтвейна? Имейте в виду, завтра меня здесь не будет, я улетаю в Португалию.
— Ну и ну, — ответила я по-русски.
Он спросил, что это значит, а я объяснила, что это эмоциональное выражение, которое трудно перевести на иностранный язык.
— Ну и ну, — сказал он. — Просто я люблю путешествовать. А вы?..