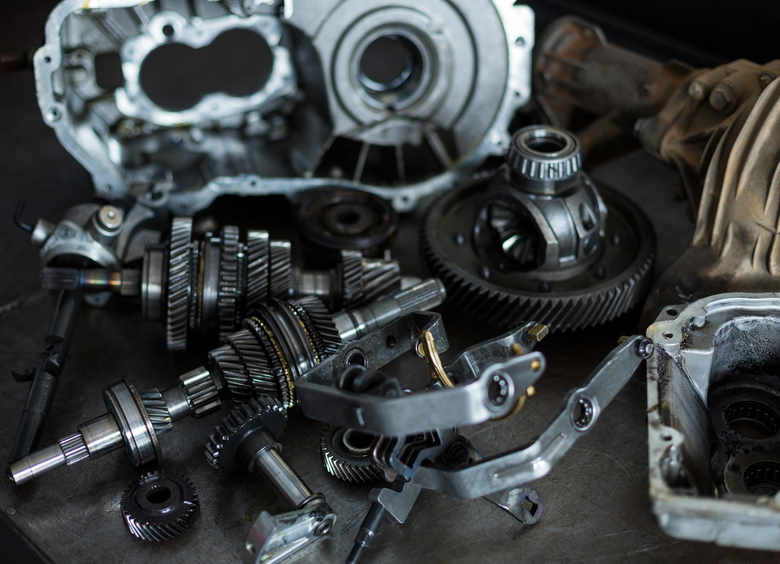Я прилетела за час до назначенного времени, села на диван в холле и стала разглядывать людей. Девятый час утра, Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева. Вот, на ходу снимая куртку, несется молодой человек. Наверное, стажер. Наверное, проспал. Вот уверенной походкой, отвечая на ранний звонок, идет красивая женщина. Очевидно, врач. А эти люди — их не спутаешь ни с кем. Тревожный взгляд, разговаривают вполголоса. Ребенок плачет и вырывается из рук. Наверное, привезли на операцию.
Я поднимаюсь на лифте, намеренно замедляю шаг. Академик Подзолков смотрит на часы: ну что, пора переодеваться? В дверь заглядывает медсестра: да, пора. Перед нами открываются автоматические двери, одни, вторые. Когда я успела переодеться? Маска мешает дышать. Стены операционной кажутся серебряными. Я поднимаюсь на скамеечку и заглядываю вперед. Голова ребенка отгорожена от врачей, и эта преграда еще целое мгновение отделяет меня от того, чему навек суждено остаться в моей памяти: темно-синие простыни, алая кровь и что-то нежно-розовое, похожее на цветок лотоса. Это и есть сердце.
Лепестки этого цветка упругие, но тонкие. Скальпель легко рассекает нежную плоть. Кто бы мог подумать, что кровь такого веселого цвета? Пламенеющая влага то и дело заливает поле деятельности врачей. Подзолков ложкой достает из какой-то посудины лед и засыпает источники этой влаги. Между тем — я не заметила, как в руке хирурга оказался иглодержатель, — он начинает ушивать отверстие, которое называется “дефект межпредсердной перегородки”. Такая маленькая дырочка… Крошечная игла похожа на загнутую ресничку. Подзолков делает едва заметные движения, и я вижу, как “ресничка” стягивает края отверстия. Ровные стежки на равном расстоянии друг от друга. Пот ужаса больше не заливает мне лицо, и я начинаю отдавать себе отчет в том, какие это отточенные движения. Говорит Владимир Петрович очень тихо, не оглядываясь протягивает руку, и в ней тотчас оказывается нужный инструмент. Я не в состоянии сосчитать, сколько человек находится в операционной, потому что не в силах оторвать взгляд от рук Подзолкова. Наверное, это самое красивое из того, что мне в жизни довелось увидеть. Человек исправляет ошибку Творца. Плюс к этому — идеально слаженные действия всех, кто стоит у стола. Мне кажется, действия эти подчинены зеленым линиям на мониторе. Эти линии регистрируют работу аппарата искусственного кровообращения. Ведь сердце шестилетнего ребенка сейчас не работает, за него работает машина. Лучше об этом не думать. Лучше не думать о матери этого ребенка, мимо которой я прошла, направляясь в операционную. Хорошо, что она никогда не узнает, как это было.
Как из тумана, откуда-то всплывают слова о том, что тело больного во время операции на сердце охлаждается.
Я осторожно дотрагиваюсь до розовой щечки погруженной в глубокий сон девочки. Холодный ребенок обжигает.
Сегодня у Подзолкова две операции.
В перерыве мы выходим в коридор и смотрим в окно, на золотистый перелесок, странным образом уцелевший среди городских построек. Владимир Петрович с наслаждением разглядывает эту мирную картинку и говорит, что там время от времени бывают утки. Я украдкой наблюдаю за ним. Я вижу, что он все еще в операционной: он говорит еще тише, чем обычно, в точности, как там. Спустя минуту мы входим в другую операционную.
Ноги у меня по-прежнему не сгибаются. Я смотрю на лицо девочки-подростка, чье сердце сейчас так беззащитно. Смешные дырочки носа, розовые губы и зубы, как у зайца. Горсть веснушек. Эта операция несравненно сложней первой: порок — отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. В 1997 году Владимир Петрович Подзолков выполнил ее первым в нашей стране.
Я, не отрываясь, слежу за движениями сверкающего под ярким светом инструмента. Перед глазами шесть рук. У операционного стола люди должны понимать друг друга, как в космическом корабле. Через несколько часов они выйдут из зала и станут такими же, как все. Но теперь я точно знаю, что это не так. Они другие — мы не стоим рядом с ними в этом серебряном уединении, от наших движений не зависит жизнь другого человека, нам столько не дано и, значит, с нас столько не спросится.
* * *
Я выхожу, не дожидаясь конца второй операции.
Женщина, которая наливает мне чай, говорит: вы никогда этого не забудете. Смешная… Я даже не смогу объяснить, почему меня так тронул плавленый сырок, который я ем, как невиданное лакомство. Оказывается, здесь, на земле, все по- прежнему. Из окна виден огромный гипермаркет. Люди с гружеными тележками снуют, как заводные мышки, медленно ползут на стоянку машины. И никто даже не догадывается, что в нескольких сотнях метрах человек только что…
Подзолков только что вышел из операционной, ответил на звонок и пошел на ученый совет. То есть как? Да очень просто. Я пошла с ним, чтобы убедиться в том, что мне это не приснилось. Как бы не так: свеж, собран, строг. Задавал вопросы, внимательно слушал.
Потом он вернулся в кабинет, у дверей которого ждали родители больных детей. Пока шла консультация — долго, — я разговаривала с родителями Андрюши Простова. Шестилетний ребенок перенес уже три операции, у него врожденный комбинированный порок сердца. Раньше этот порок считался неоперабельным. Малыш родился в Ставрополе, первую операцию сделали, когда ему было два месяца, вторую — в год, а третью недавно. Третью делал Подзолков. Чтобы дождаться этого дня, Наталья и Дмитрий Простовы переехали в Москву, благо Дмитрий — сотрудник милиции, вакансий в столице хоть отбавляй. Наталья страшно боялась встречи с Подзолковым, потому что это хирург с мировым именем, а с такими людьми ей встречаться не приходилось. И вот, чтобы объяснить, как это было, Наталья мне сказала: теперь я знаю, что такое — огромный человек.
А потом мы пошли в реанимацию, проведать детей, которых он оперировал утром. Вот шестилетнее дитя, которое меня обожгло. О том, что было несколько часов назад, напоминает лишь небольшая повязка на груди. Подзолков взял стетоскоп, осторожно погладил спящих детей, и мы пошли в его кабинет есть пельмени.
Вечером это ни к чему, но я в космосе отчаянно проголодалась.
* * *
Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки России, академик РАМН Владимир Петрович Подзолков — выдающийся детский кардиохирург. Всю жизнь он посвятил проблеме хирургии врожденных пороков сердца и сегодня признан лидером в этой области кардиохирургии в мире. Впервые в мире Подзолков выполнил множество операций на сосудах и сердце, в том числе — радикальную коррекцию единственного левого желудочка сердца, радикальную коррекцию единственной или добавочной левой верхней полой вены, операцию Фонтена в модификации тотального анастомоза. Первым в мире Подзолков разработал и блестяще воплотил в практику принципиально новый подход к хирургическому лечению сложных редких пороков при крисс-кросс сердце.
Фундаментальные исследования, выполненные под руководством Подзолкова, дали возможность существенно расширить количество оперируемых больных. Первый заместитель директора ГУ Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева В.П.Подзолков награжден множеством орденов и медалей, в том числе и золотой медалью Бориса Петровcкого “Выдающемуся хирургу мира” и золотой медалью академика В.И. Бураковского.
Должности, регалии и заслуги Подзолкова можно перечислять долго: он автор без малого 600 научных работ (в том числе 17 монографий), является членом многих научных сообществ и т.д. и т.п. Но это не всё и, думаю, не главное. Да, у него золотые руки. Да, он выдающийся ученый. Но чтобы быть врачом, тем более хирургом, нужно еще кое-что.
Владимир Петрович — сибиряк, его отец 35 лет был ректором Красноярского медицинского института. Больше всего на свете его интересовал спорт, однако он поступил в мединститут, досрочно защитил кандидатскую диссертацию и стал первым отечественным аспирантом выдающегося советского кардиохирурга, легендарного Владимира Ивановича Бураковского. Вот что Бураковский написал на титульном листе своих “Записок кардиохирурга”: “Дорогой Володя, мне радостно сознавать, что ты в нашу совместную работу внес большой вклад, радостно сознавать, что ты, выросший на моих глазах, стал замечательным врачом и хирургом. Я очень тебя люблю — светлого и чистого. Твой В.Б. апрель 1988 г.”
Вот я об этом: Подзолков — удивительный человек.
Когда я увидела его впервые, я сразу сказала себе, что ноги моей рядом с ним не будет. Сухой, невыразительный, говорит тихо, лишнего слова клещами не вытянуть. Говорят, хороший хирург. Дальше что? Хороших хирургов на свете немало. Но ведь тоска зеленая!
А оказалось, что Подзолков — человек без позолоты. Ничего внешнего, того, что наносится тонким слоем и быстро стирается. Как правило, такие закрытые люди полностью раскрываются только в работе. Почему? Потому что монолит — самое надежное основание для любой конструкции.
Без малого тридцать лет он руководит отделом хирургии врожденных пороков сердца. Ни от коллег, ни от медсестер, ни от технического персонала я не услышала о нем ни одного плохого слова. И сам он на такие слова не мастер. Говорят, никогда не повышает голос, а слышно его при этом все равно очень хорошо.
Единственное, что для меня необъяснимо, — это то, что Подзолков — охотник. Ну никак не могу себе представить, как он кого-нибудь убивает. Оказалось, что и на охоте он больше хирург, хоть стреляет метко. Вот что рассказывает давний друг Владимира Петровича летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов:
“В прошлом году в декабре я поставил на охоте Подзолкова и академика Юрия Бузиашвили рядом. Вместе с ними были опытные стрелки, но я попросил их не стрелять, если зверь выйдет на академиков. Сам я стал напротив. Охота была на крупного зверя. И вот, представьте, лось вышел на них, постоял и… уходит. Прибегаю — и что вижу? Академики присели и что-то очень увлеченно прутиком на снегу рисуют. Схему какую-то… Я им — что ж вы чертили-то? Хотя и так понятно, что обсуждали они что-то очень интересное и важное”.
* * *
Во время операции Подзолков преображается.
У него меняются глаза, вместо привычных, чуть угловатых движений — плавные, так и хочется сказать — любовные. Мне было не до художественных образов, но я ощущала именно такое изменение, потепление, мягкость. То есть средоточие его жизни — там. И поэтому мне очень хотелось увидеть его не в клинике. Я стала напрашиваться в гости. Видно, я была очень убедительна. И ничуть об этом не жалею.
Первое, важнейшее впечатление: квартира академика, лауреата и т.д. и т.п. — без колонн, полов с подогревом, голых наяд в угодливой позе и прочих примет благосостояния. Цветы, книги, чай на кухне.
— Владимир Петрович, у вас жена-красавица, должно быть, держит вас в ежовых рукавицах…
— Чего?!
— Ясно. Вы — домашний тиран.
— Когда у нас с женой спор доходит до чего-нибудь принципиального, она всегда уступает, потому что спорим все-таки по пустякам. Отношений выяснять не люблю. Меня отец научил не быть злопамятным, не мстить.
— Как же вы дружите с людьми, если вы такой закрытый?
— А просто я умею терпеть. Это действует. Но на самом деле я абсолютный сухарь. Не могу делать комплименты. Всего несколько раз в жизни расставался с людьми.
— Можете назвать ваш самый большой недостаток?
— Может быть, то, что я недостаточно откровенен. Со мной в этом смысле, видимо, очень трудно.
— А что вы в себе не любите?
— Даже не знаю, как это назвать. У меня слишком мало здорового авантюризма. Я — человек, у которого должен быть запасной аэродром. Я очень осторожен. В нашей профессии по-другому нельзя. Вот вы спрашивали, как быть, если человеку нельзя делать операцию. Как отказать? Понимаете, даже в этом случае человек должен уйти, удовлетворенный ответом. С такими людьми нужен особый разговор. То есть главное — объяснить, что никто не имеет права идти на неоправданный риск, а иначе это будет эксперимент. Никто не хочет быть лабораторной мышью. Но врач обязан объяснить, что в медицине каждый день происходит что-то новое. Человек не должен уйти с ощущением безнадежности, врач обязан оставить надежду, это даже с медицинской точки зрения очень важно.
— Что зависит от денег?
— Когда оперируешь — нет солдат и генералов, платных и бесплатных пациентов. Есть врач, и есть больной. Это во-первых. Во-вторых, квалификацию, талант, желание работать за деньги не купишь. В этом скрыт очень большой смысл — добиться всего самому. К концу 70-х годов я знал практически всю мировую литературу, касающуюся пороков сердца, потому что научился читать на трех языках. Я мог написать диссертацию на несколько тем. Я ответил на ваш вопрос?
— Что такое врач?
— Не профессия, нет. Врач — это образ мысли, умение понимать и любить людей, какие бы они ни были.
— А как насчет здорового самолюбия?
— Главное, не перепутать: любить ли себя в медицине или наслаждаться тем, что смог помочь.
— Что чувствует врач, у которого погиб больной?
— Привыкнуть к этому нельзя. Мне нужно много времени, чтобы пережить это. А если ничего нельзя было сделать, еще больней. Бураковский говорил, что, пока больной лежит у тебя в отделении, ты отвечаешь за него головой.
— Владимир Петрович, вы не верите в бога, не верите в приметы. Но бывают же чудеса?
— Да. И это побуждает к тому, чтобы бороться за каждого больного до конца. Обязательно! Знаете, много лет назад был в отделении больной, на аппарате искусственной вентиляции легких. Совершенно синий человек. Никто не верил, что он может выкарабкаться, а он все же пришел в себя. И всегда надо об этом помнить.
* * *
Подзолков на работе проживает две жизни, иногда три. Смотря сколько в этот день сделал операций. За последние пять лет он сделал 1200 операций — в среднем 220 в год. Поэтому, если жене удается вытащить его в театр, есть риск увидеть его спящим. Однажды он задремал на концерте Аркадия Райкина. Читает он в основном специальную литературу. Я спросила, что он читает на отдыхе. Он ответил: вот, помню, читал на пляже “Призрак Кукоцкого”…
Смотреть на него на кухне — одно удовольствие. Он понятия не имеет, где находится половник, не тверд в обращении с микроволновой печью, но божественно солит огурцы. Владимир Петрович объяснил мне, от чего зависит огуречный хруст и как достичь в этом искусстве полного совершенства, и я навек их полюбила. В том числе и потому, что с помощью огурцов мне удалось чуть разговорить такого немногословного собеседника. Когда речь зашла о пирогах с капустой, Владимир Петрович заметил: “Я вообще считаю, что хорошая семья — та, где жена печет пироги. Ведь женщина просто так пироги печь не будет…”
В тот день, когда я была на операциях у академика Подзолкова, исполнилось 11 лет с того дня, как ему самому сделали операцию на открытом сердце. Он сказал, что подошел к этому событию философски и накануне распил с директором Института трансплантации Валерием Шумаковым бутылку коньяка.
Завтра Владимиру Петровичу Подзолкову исполняется 70 лет. Я спросила его, что он думает о старости.
— А что это? — сказал он. — Я разве старик? Я — человек, полный сил и желаний. А стариков мне очень жаль, вот и всё.
Нет, не всё. Этому человеку удалось сделать больше, чем он думает. Его необычайная скромность, немыслимая требовательность к себе и любовь к людям не позволяют нам упасть духом.
Владимир Петрович, вы очень счастливый человек.
Из письма пациентки НЦСХ им. А.Н.Бакулева Ирины Пелтаракиной:
“Уважаемый Владимир Петрович! Хочу поблагодарить Вас за всё хорошее, что Вы для меня сделали. Многие, кто находится в отделении, могут назвать Вас отцом, так как Вы дали нам вторую жизнь.
Спасибо за всё. Дай вам бог здоровья и всех благ.
Низкий Вам поклон. 8 февраля 2008 г.”.