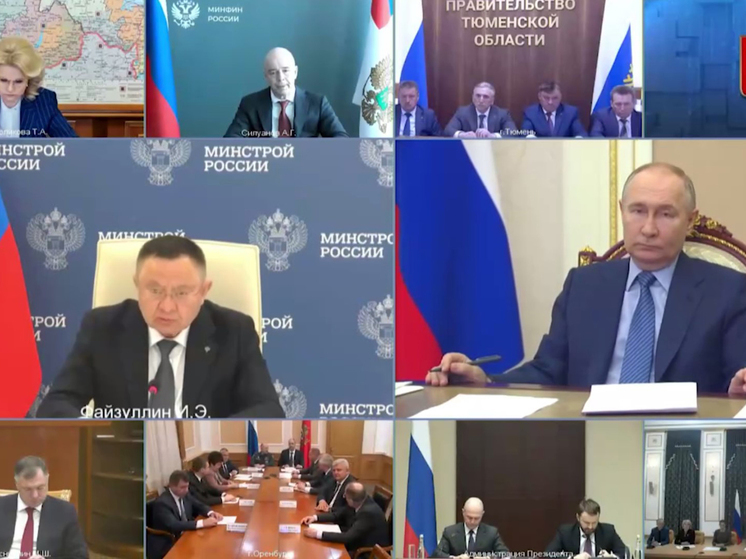Про Жванецкого и правду-матку
— Татьяна Анатольевна, вся Москва заклеена плакатами — вы там такая смешная, с очками на носу… Не постеснялись?— Чего стесняться-то? Мне эта фотография понравилась. Я вообще люблю очки и женщин в очках — они подчеркивают характер. Потом сейчас такие красивые оправы…
— Многие слышали, как вы умеете хохотать, а когда встречаетесь со Жванецким, то, наверное…
— Я обожаю его слушать, наблюдать за ним — он настоящий гений, мне очень повезло, что я бываю рядом с ним. Но всегда больше слушаю, чем говорю. Что я могу ему сказать? Я поражаюсь, как он ставит слова, как из слов возникают целые картины. И потом — Жванецкий не так часто пишет смешные вещи. Это глубочайшие произведения, слыша и читая которые испытываешь обиду и боль.
— Вы многих шокируете тем, что высказываетесь резко. Хотя одни считают, что рубите правду-матку не задумываясь. Другие — что взвешиваете каждое слово. Может, вы рубите правду-матку, взвешивая каждое слово?
— Хорошая формулировка. Но иногда ничего не взвешиваю. Иначе было бы меньше неприятностей. Хотя сейчас как-то уже больше научилась себя контролировать. Но я очень остро реагирую на несправедливость: по отношению к себе я могу и стерпеть, а к другим — нет. У нас в семье принято было говорить только правду. Это ведь не стыдно — говорить правду. Только не всегда получается никого не обидеть при этом. А это нужно — не обижать.
— А если заслужили?
— Когда мне было лет 28 и ко мне был прислан из главного общества профсоюзов доктор, который недокармливал детей, — это было в Томске — то била я его так, что не помню ни себя, ни его в этот момент.
— В прямом смысле слова?
— В прямом. Гнала его — не помню как — с девятого по первый этаж, он перескакивал через две ступеньки, а я летела в ярости за ним. И если бы совсем догнала, то, наверное, убила бы. Потому что у меня целую неделю дети были голодные. Он воровал. Прихожу на кухню: “Что-то мне кажется, что мои дети — голодные”. А мне отвечают: “Да ты посмотри, что доктор им заказывает, какой минимум!” — и дали “разблюдовку” на всю неделю. А там — крохи. Метнулась, вывернула весь его чемодан — и оттуда как посыпались талоны и деньги, которые он украл. И все, сдержаться я уже не могла.
— Вам потом погоню в лицах и красках описали?
— Свидетелей не было. За нами никто не смог бы угнаться.
— Трудно вам, если не правы, просить прощения?
— Нет. Если виновата — нужно обязательно повиниться. Сразу. Я не знаю, чувствует ли облегчение человек при этом, но я — огромное. И я обязательно допрошусь этого прощения.
— Многие ученики вами “целованы в плечико”…
— Да, это моя бабушка так нас хвалила — целовала в плечо. А когда-то Илья Кулик меня спрашивал: “Вы вообще-то хвалить умеете?”. Я говорила: “Я же не для того рядом с тобой, чтобы хвалить, а чтобы ты был лучше!” Но и он мною поцелован.
— Ваше расставание с Куликом было напряженным, сейчас он приедет на юбилей…
— Я так рада.
— Вы его простили?
— Конечно, давно. Мы с ним виделись много раз, он мне дочку свою показывал, мы с ним целовались и обнимались. Все пришлось и на его переходный возраст, и, наверное, на мое психопатство в тот момент. Я была в очень тяжелом состоянии после Олимпийских игр в Нагано. На пределе. Но я же старше и я педагог, значит, должна была найти способы для разрешения нашего конфликта, а я ничего не искала. Илюша ведь был первым мальчиком, которого я взяла, и я была как голубка над ним, я его обожала…
Хотела убедиться, что он жив…
— И все же ученик и тренер находятся на одной нитке в момент труда…— В момент созидания. Ну и что, что потом эта нитка тоньше или даже рвется? Это нелегкий момент, но главное, что ты дал человеку жизнь. Признательность выражается уже в том, что ученик донес придуманное тобой до зрителя, выступил передаточным пунктом.
— Неужели достаточно?
— Да, потому что ты возврат получаешь от людей. Передаешь через него, а тебе возвращается с трибун.
— Но конкретно в “посредника” вложено столько сил, эмоций, любви, здоровья.
— А что требовать? Признательности? Бесполезно. Ты же любишь и вместе делаешь это дело. Что они должны сказать? Ты видишь, что они и так тебе благодарны. И ты уже все получил… Учеников же не надо мучить любовью. А я их мучила.
— Это они вам говорили?
— Я так думаю. Может, излишне о них заботилась. Они ко мне попадали в основном в том возрасте, когда их колбасило. А они только с тобой, без родителей, далеко от дома. И ты за них всегда в ответе. Я помню, как однажды Андрюшка Букин не пришел ночевать. Он так натренировался, так устал, сомневался, что он это вынесет… И абсолютно обессиленный куда-то пропал. Я просидела прождала его в гостинице, на подоконнике, свесив ножки, до восьми утра.
— Давали себе обещания — никогда больше…
— Я хотела только его увидеть — убедиться, что живой. Хотя, конечно, я из тех счастливых тренеров, которых любили ученики. И с каждым из них у меня есть фотография, где видно, что мы счастливы. Втроем или вдвоем. С каждым — причем кто-то снимал случайно, это не постановочные снимки. И этого ощущения сейчас мне вполне достаточно — я знаю, что меня любили. Я это чувствовала.
— Кто доводил больше всего?
— Они все были хороши. И все могли это сделать.
— А от кого-нибудь вы отказывались в момент созидания? Не потому что нет идей, а потому что не понимают?
— Нет. Это ведь мои проблемы. Если я не могу что-то сделать с человеком, он что-то не может выполнить, это уже мой вопрос — как научить или как заставить. Как изменить путь…
— У вас талантливые подруги — Галина Волчек, Марина Неелова… Талант к таланту, судьба к судьбе тянется?
— У меня очень талантливый муж. (Владимир Крайнев, пианист с мировым именем. — И.С.) Во многом мое — это его окружение. Когда рядом по-настоящему талантливый человек, это общение ведь и тебя обогащает.
У мужа, например, такая библиотека по искусству, что только ленивый в нее не заглянет. Вова — настоящий собиратель, он без книги ни секунды не проводит, чемоданчик книг всегда с ним. Знаете, как говорит моя свекровь, пока человек живет, он учится. А я всегда очень была любопытная. Училась в центре Москвы в школе рабочей молодежи на улице Чехова, смотрела все выставки, как-то все время попадала в Политехнический и слушала всех — Рождественского, Вознесенского… Идешь в школу, на Маяковке, поднимаешься вверх, а там уже кто-то из школы стоит и говорит: а в 9 часов та-акое кино в “Москве”! И мы со всех ног туда, чтобы не опоздать. На всех премьерах были в театрах. Это было время расцвета МХАТ, рождение “Современника”, Володи Высоцкого со своими спектаклями — это мы все смотрели с утра, между учебой. Времени было мало, но желания узнавать много. Потом начались поездки: если ты едешь в Дрезден в 17 лет, как ты можешь не пойти в Дрезденскую галерею?
— Да многие могут это сделать легко.
— Это их проблемы. Не знаю, очень хотелось все чувствовать, все знать. И все равно, я все не узнала, недосмотрела. Но если ты занимаешься творческой работой, ты не можешь отказаться и от чьего-то творчества. Пусть надо лететь куда-то, ехать, но надо видеть все живьем и в оригинале.
Герань на снегу
— Сейчас авиакомпании мили у пассажиров подсчитывают, бонусы всякие дают — вы уже, наверное, налетали на пожизненный воздушный проездной?— Ох, налеталась. Сейчас уже не хочу летать — спина болит. Но что делать — воспринимаю как тяжелую необходимость. Мы же не в первом классе блаженствуем. Мы когда с Тамарой Николаевной Москвиной летали, я ложилась сверху, а она на пол. И так спали.
— Это было самое нестандартное место для сна?
— Да, всякое бывало — по трое суток сидели в аэропортах. Помню, в Кемерове так было. У нас там проходили показательные выступления на открытом воздухе: минус 25, пурга, все заносит, а зрители по четыре часа как вкопанные стояли. И в этот снег, который наметало на лед каждые пятнадцать минут, они бросали срезанную герань. Со своих окон срезанную, цветов же не было... Я умирать буду, не забуду это турне. Нам организаторы приносили ведро апельсинов, все брали по апельсину, валялись в перерывах между двумя выступлениями на раскладушках и — с этой вот геранью. А когда уезжали, тогда и зависли в аэропорту. Газеты расстелили около туалета — и так лежали. А что делать? Как все… Жили, чтобы работать.
— Жить, чтобы работать, — это правильно?
— Я не знаю, когда-то — очень правильно. Я счастливо прожила свою жизнь. А ради чего тогда? Можно жить ради детей — это тоже большая цель, настоящая, когда мать во имя детей уходит с работы. Собой тянуть детей — растить, образовывать… Это и тренерская работа — тянуть собой. А что еще делать? В тусовках — оно ведь ничего не рождается. На старых кухнях рождалось. Даже в безденежье — рождалось. Денег ведь много не бывает, их не хватало всегда. Я помню, мы ехали в турне по Европе, каждый день разная страна, единой валюты не было, нам платили пять долларов за сутки. А билеты в кино стоили шесть. Мы не брали валюту в одной стране, для того чтобы было десять долларов, и скидывались, например, чтобы посмотреть “Последнее танго в Париже”, заказывали в номер, закрывались, занавешивали шторы и пропитывались…
— В Москву для вас специально приезжают прославленные Белоусова—Протопопов…
— Огромная часть моей жизни прошла вместе с ними. Их талант окрашивал всю нашу жизнь. И я это понимала с детства. Сначала это были кумиры, потом мы были в одной сборной. Я с ними встречалась после их отъезда из России там, где они живут — очень скромно, много ходят по горам, много тренируются, у Олега огромная картотека, много пленок ценнейших. Они распоряжаются жизнью так, как хотят, я с большим уважением к этому отношусь, это же их жизнь.
— Татьяна Анатольевна, вы сами сегодня распоряжаетесь жизнью так, как считаете нужным?
— Я еще пока на перепутье, я вроде делаю то, что положено, но еще не знаю, что буду делать дальше. Времени мало осталось. Но пока ни про что не думаю: вот пройдет юбилей… Я не ожидала, что будут такие грандиозные показательные выступления в мою честь, — вот поверьте, я не кривлю душой.
Семья очень хочет, чтобы мне это справили. Потому что видели все эти усилия нечеловеческие, и все мои слезы, и как я голос теряла — по нескольку недель молчала. Им это важно.
— Вы признаетесь, что умеете радоваться чужому счастью…
— Умею, да. Честно, по-настоящему. Радуюсь, что новые тренеры появились: могу оценить талант Коли Морозова, своего ученика. Талант Саши Жулина, мощь Олега Васильева, когда вижу, как интересно работают Жук со Свининым, тоже испытываю счастье. Потому что профессия наша очень глубокая, и я счастлива, что кто-то еще вступил на этот путь. Я всегда могла восхищаться талантом Тамары Москвиной... А когда танцевала Мила Пахомова и ей делала потрясающие программы Чайковская, я не могла ночами заснуть, не сдерживалась и звонила, чтобы поздравить с их, например, могучей румбой. Я очень вообще благодарна Лене Чайковской за то, что она привила мне большую любовь к искусству и в моем фундаменте, безусловно, есть очень крепкие ее камни. И в юбилей я не могу о ней не вспомнить. Хотя я никогда ее и не забываю.
Я так больна. И что делать?
— Ваш любимец Алексей Ягудин в интервью “МК” сказал, что большой спорт — это зоопарк. Тебя кормят, поят, возят, дрессируют, а ты потом выходишь на арену.— Слушайте его больше, выпендрился. Хотя он самый умный… Ну почему зоопарк? Ведь так просто люди не встают на трибунах! Если тебя просто отдрессировали — люди не встанут. Двадцать тысяч поднять в одном порыве очень сложно. Поднять можно только высоким — своей душой. Это очень тонкая грань: когда ты недодал — зал не встанет, а когда ты творец… Знаете, какие Валентин Гафт написал стихи? Он будет их читать на моем юбилее — про фигурное катание. Я плакала... Лешка врет! Надо же, так сказать. Ну если зоопарк — то, конечно, хорошие дрессировщики! Если олимпийский чемпион так считает, то, значит, сверххорошие дрессировщики ему попались. И на льду ничего не заканчивается: ведь если ты раскрыл возможности спортсмена, он вообще по-другому будет жить.
— Еще Алексей сказал: “Она просто больной человек, больна спортом”.
— Хорошо это или плохо? Любая болезнь — это все равно болезнь. Но у меня так — что же я могу с этим поделать? Ничего.
— А вы когда-нибудь мучились от чувства обреченности: ведь, если взяли ученика, значит, он должен “взойти”?
— Обязательно. Поэтому разрушила все здоровье. Потому что планка такая высокая — первое место только одно.
— И на второе…
— Есть только первое. У меня слово “победа” ассоциируется только с той победой — в 45-м, с безоговорочной. Поэтому и жить тяжело — ты все время под прессом. Даже часто не получаешь удовольствия. Потому что заканчиваются соревнования, и ты в ту же секунду теряешь и силы, и интерес.
— Вы как-то рассказали мне про одну любимую слабость — проснуться утром на даче, поесть, не вылезая из постели, жареной картошечки с капустой и огурчиком, потом заснуть и, проснувшись… снова все повторить. Признайтесь еще в какой-нибудь!
— Назначить двадцать свиданий, расписать полностью день и вот с вами сесть болтать в ресторане. Или отключить все телефоны и остаться дома, или уехать вообще неизвестно куда. Потому что наступает какой-то предел, когда ты должен сделать то, что хочешь. Ведь потом все равно ты делаешь то, что надо.
Чужую жизнь надо любить больше
— А вы чувствовали когда-нибудь, что вас боятся — до дрожи в коленках?— Наташка Бестемьянова говорила, что у нас на тренировках до такой степени всегда доброжелательная обстановка, что, когда она выходит на соревнования и на нее смотрит пара злобных глаз, она чувствует себя незащищенной. Потому что как бы я ни ругалась и ни смотрела, я все равно все это окрашивала любовью. Я не представляю, как можно работать без любви. Вернее, я понимаю, как можно, но я так не работаю. Вот мне Жанна Федоровна Громова, которую я очень уважаю, говорит: “Мне все равно: любят они меня или нет, пусть выполняют то, что я говорю”. Но для меня этого мало. И это не значит опять-таки, что это хорошо или плохо. Разный подход, разные люди... И, кстати, думаю, что она лукавит — Иру Слуцкую она свою очень любила. Помните эти глаза тренера у бортика, буквально залитые нервом?
— Когда во время гастролей вашего Ледового театра несколько человек остались за границей и попросили убежище, вам было страшно?
— Я пошла тогда к Михаилу Ульянову — потому что мы ездили по линии Союза театральных деятелей, а он мне сказал: “Ну и что? У меня тоже несколько человек осталось, сейчас уже время другое”. Но мы не знали, что уже другое время. Я представляла, что нас здесь будут встречать прямо у трапа самолета и повезут прямо куда-нибудь “туда”. Страшно было — что театр закроют, что гастроли прикроют, а мы через двадцать дней должны были выезжать… А время, правда, оказалось другое. Но я рада за Игоря Шпильбанда (известный сейчас тренер, один из оставшихся в США. — И.С.) — он полностью реализовался и сейчас является ведущим танцевальным тренером в тандеме с Мариной Зуевой. А то, что они меня тогда поливали, так им просто надо было там получить статус беженцев, поэтому они должны были это делать. Нет, передо мной никто не извинялся. Впрочем, это уже неважно и неинтересно.
— А что вам еще неинтересно?
— Сплетни фигурного катания.
— Ваши сплетни — это сегодня практически наше все. Вот, скажите, Лешка-то женился?
— Я вас умоляю…
— Комментаторы чемпионата Европы сказали, что событие свершилось. Да вы не знаете, наверное?
— Ну наверное... Сегодня с утра встал и женился! Не смешите. А по поводу сплетен — мне ничего не нужно знать, кроме того, что нужно знать. Вот я сейчас покупаю компьютер и приступаю к изучению. Я пожилой человек — и надо жить соответственно возрасту.
— Не надо, это не ваша роль. А это вы вообще о чем?
— О том, что компьютер — прекрасная возможность, не сходя с места, получить информацию в полном объеме. Переписка мне не нужна. С кем надо — я встречусь, я и телефон-то не очень люблю. Потому что привыкла к тому, что народ все время рядом. Семья у нас была очень дружная, бабушки жили с нами, они нас очень любили. У мамы было три сестры, все были вместе, к обеду за одним большим столом никогда не садилось меньше 18 человек. И бабушка жила еще со своими подругами всегда, и так, видимо, во мне все это осталось — что дом должен быть полон народу. Бабушка всегда говорила, что чужую жизнь надо любить больше, чем свою. Так и делала всегда. Она была медицинским работником.
Знаете, сейчас вспомнила, как мама с папой, Галей и со мной собирались ехать в Ленинград на машине. Родители хотели показать нам с сестрой город, музеи, набережные, залив… И мама велела мне убраться в квартире. Потом пришла, провела пальцем под мебельным шкафом… и они поехали втроем. Я билась в истерике на балконе, бабушка сказала — “звери”, но меня не только не взяли, этот вопрос просто не обсуждался.
— Ужас.
— Вот я тоже до сих пор считаю, что это ужас… И — какое счастье, что он был.