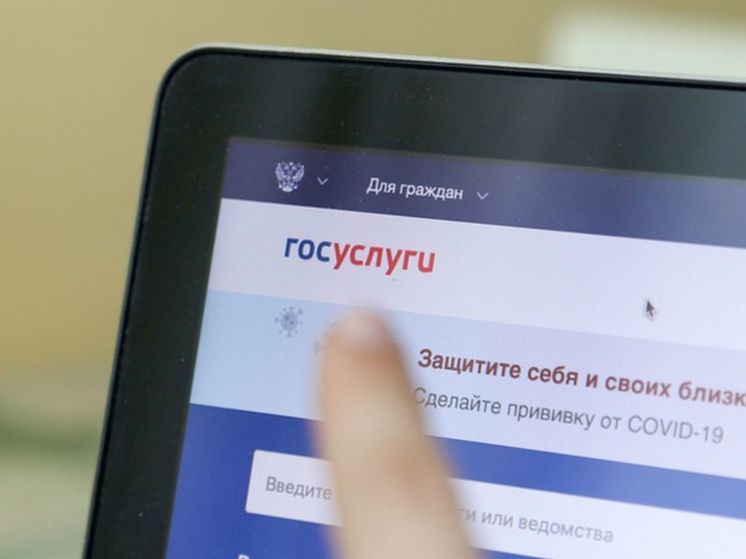— Я считаю — круто, что мы попали в Берлин, круто, что мы получили премию, — рассказал Алексей Герман «МК» сразу после церемонии награждения. — Тем более для такой картины, которая обращена к русской интеллигенции, для такого русского фильма — на 200 процентов. И, конечно, я рад за наших замечательных операторов. И Сережа Михальчук, и Женя Привин помогали нам во всем, придумывали этот фильм вместе с нами. И наконец, очень круто, что выиграли Россия и Украина (Михальчук родом из Украины, а Привин — из России, — Н.К.). Это наша совместная победа.
— «Под электрическими облаками» — фильм и похожий, и не похожий на тебя. Это был сознательный шаг?
— Мне лично осточертело смотреть артхаусные фильмы. У меня ощущение, что они сделаны специально для субтитров. В них герои долго сидят, молчат, потом что-то говорят, потом опять ничего не происходит. Мы же специально нарушали все правила. С точки зрения драматургии это попытка повторить 19 век русской классической литературы. Поэтому с одной стороны у нас получилась еще одна история про то, что в России, если говорить глобально, мало что меняется — ну вот такая у нас страна, распятая в разном времени. А с другой стороны, с точки зрения киноязыка, мы сознательно шли в сторону более сложного, плотного, авангардного повествования. Я пытался сделать полифоническую картину. Не говорить: вот так правильно, а вот так неправильно, а вытаскивать какие-то наши ощущения.
Ну вот, у меня наверняка будут спрашивать: а почему у тебя девочка сидит на Ленине? А я не знаю. Мне просто показалось, что она настолько одинока, что ей с памятником легче разговаривать, чем с человеком. Но людей такой ответ не устраивает, они продолжают искать в этом какие-то смыслы. Или: а почему такой дом? Наверное, это символ? Ни хрена это не символ! Нам просто был нужен тонкий надломленный дом прекрасного дизайна. Потому что у нас архитектор тонкий парень.
Я много раз видел, как мои товарищи-архитекторы разговаривают с клиентами. Ну это конец. Все они в прошлом — тонкие люди, но с возрастом изменились. Будто из них весь воздух вышел. Осунувшиеся, они потеряли то, зачем жили. Да, бабло есть, но им больше ничего не интересно. Почему? Потому что они ведут эти бесконечные разговоры. В беседе с заказчиком они все говорят одно и то же: вы так устаете, вам нужна зона, где вы сможете собраться с мыслями, побыть наедине с собой. Заказчики кивают, а потом: «Слушайте, а фонтан можно? А колонны?» Так вот, нашего героя от всего этого тошнит, и я его понимаю. Его товарищи думают, что он инфантильный. А он просто не хочет превращаться в обслугу. И этот дом — его попытка создать неутилитарную, воздушно-великую архитектуру.
— Но ведь это натуральная Вавилонская башня — каждый, кто соприкасается с этим домом, переживает личную драму.
— Ты меня сейчас тащишь в концептуализм, а я не мыслю концептуально. Я мыслю просто: были архитекторы, молодые ребята, которые придумали некое строение. Нашелся богатый мужик, который сказал: «О! А давайте построим!» Видимо, таким образом он частично отдавал долги молодости. У нас же весь бизнес — как правило, он кровавый. Зачем делать вид, что это не так? Но при этом мужик, видимо, был приличный. Не просто же так больницы строил. Дальше, видимо, что-то случилось у него с нашим государством. Инвестор уехал за границу. Там он умер. Приехали его дети, которые все это унаследовали, но не знают, что с эти делать. Тут же у них начали это все отжимать, пугая прокуратурой.
А наследнице нравится этот дом, но она должна принять решение: либо она все продает, либо этим занимается. Дом находится на земле, которую отжали у музея. А человека, который в этом участвовал, теперь мучают головные навязчивые сны. Рядом оказывается гастарбайтер. Какие-то люди силой удерживают маленькую девочку... Так что для меня это никакой не символ Вавилонской башни. Это просто талантливый дом, чтобы наш архитектор был талантливым.
— Ты не любишь концепты, но архитектор у тебя с родимым пятном, а наследница — со слуховым аппаратом...
— Потому что со слуховым аппаратом ей лучше, чем если бы она была без слухового аппарата. Мне кажется, это ей добавляет что-то. А Луи Франк — он в принципе человек с огромным родимым пятном на лице. Мы когда начали его снимать, кто-то сказал: «Вы что, имели в виду, что он у вас такой Горбачев?» Да нет же! Просто в России очень плохо с актерами под сорок. Обаятельных мало, на мужиков похожих мало. Поэтому возник Луи Франк. Замечательный тонкий человек. И нам было абсолютно все равно — есть у него родимое пятно или нет.
— А что было не все равно?
— Очень многое. Попытка поймать ощущение времени, разных эпох. Выпрыгивание из русской эстетики. Пытались идти в сторону импрессионизма: уловить правду не через копирование, а преломление действительности, ее концентрацию. Нам с Леной Окопной, художником картины, показалось правильным менять подход к фактурам, глубине кадра, декорациям. При этом соблюсти поэтическую форму. По большому счету это все — некое стихотворение.
— Еще интересно поговорить про цвет. Ты начинал с черно-белого кино, «Гарпастум» был немного в сепии, «Бумажный солдат» — весь в приглушенных красках. А теперь у тебя в кадре неоновые брызги.
— Цвет — не только важная часть стилистики, но драматургии и даже ритма. Снимать «Гарпастум» в цвете было невозможно. Все разговоры про то, какой был прекрасный Петербург до революции — глупость и ерунда. Невский был забит аляповатыми витринами и смотреть на это сегодня невозможно. Поэтому мы убивали цвета в «Гарпастуме».
"Бумажный солдат» — это понятно. Я не верю в яркие цвета в исторических фильмах. Это вопрос внутреннего комфорта. А в случае с «Облаками...» — это была наша попытка стилизовать эпоху. Послушай, в больших городах в России сегодня живет больше тридцати миллионов человек. И если мы выйдем на улицу любого из них, допустим, Екатеринбурга, то обнаружим довольно много цветов. Эстакад, огней, чего-то еще. У нас же не одна тайга кругом. И обрати внимание, как много сегодня сложно одетых молодых людей. Они выглядят по-другому. Куда их деть? Сделать вид, что их нет?
— И все равно этот неон настраивает на романтический взгляд.
— Он не романтический. Я старался через цвет поймать художественный образ. На самом деле, Лена вошла в проект в тот момент, когда мы были в изобразительном тупике. Мы постепенно превращали фильм в унылую историю про очередной постсоветский город. Было в этом какое-то рабское отражение действительности, а за ним не было ни образа, ни энергии, ни живописи, ни настроения, ни поэтики.
— То, что ты называешь рабским отражением действительности, для российского кино до сих пор задача — почти невыполнимая. Просто снять фильм, в котором можно узнать себя.
— Нет, давай поспорим. Последние лет двадцать русское кино вслед за мировым пытается приблизиться к идеалу копирования действительности. Это приводит к тому, что в каждом втором в кадре сидят не актеры, ездят в поездах метро, долго жрут и пьют. Иногда из этого выходит мощное художественное произведение. Но редко. Я отсидел в жюри дебютов в Венеции — таких фильмов, как нам там показывали, во всем мире делается по двести, триста, четыреста в год. Они ничем не отличаются друг от друга. Поэзия Бродского потому и поэзия, что он не описывает в пяти четверостишиях, как себя ощущает козявка в носу. Фильм «8 ½» или «Сладкая жизнь» — к действительности гораздо ближе, чем двадцать пять фильмов, снятых трясущейся камерой. Потому что действительность — это не цвет стены соседнего дома, а твои эмоции, ощущение от времени, настроение. И у каждого они свои. Снимать блюющих бомжей тоже интересно и даже правильно. Мне даже нравится, когда люди блюют. Я за. Пусть делают это в каждом кадре. Но я-то говорю о другом. О том, что все равно придет поколение, которое что-то хочет.
— При этом у твоего отца, Алексея Германа-старшего, в кино герои и блюют, и испражняются, и все это как раз для того, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.
— У него каждая фактура, каждое лицо в «Трудно быть богом» были изготовлены вручную, замок перестраивался месяцами — так он пересоздавал документальное кино средствами игрового. Но все это было сделано в черно-белом фильме, не забывай. Он так и не перешел в цвет, а почему? Потому что не знал, как это сделать.
— «Гарпастуму» когда-то шло на пользу наше знание о том, какая трагедия разворачивается за пределами фильма, пока внутри него молодые герои беззаботно гоняют мяч. Про свое время мы еще ничего не знаем наверняка, но это не мешает тебе впрямую проговаривать в новом фильме: «Война, идет война».
— Ну а как по-другому? Это часть нашей жизни — она вот такая. Мы действительно живем в предвоенное время. Оно может длиться пятнадцать лет, может два года, а может две недели. Украина, Ближний Восток, Афганистан — это же рядом все. Я вообще хотел резче заканчивать, но в последний момент смягчил.
— А рядом с пылающими границами — все те же беззаботные герои, которые искренне недоумевают: ну не мог же Сталин загубить столько людей! Такого не бывает!
— Это непонимание целого поколения. Оно обо всем забыло и живет в такой реальности, будто Ленин это — 17 век, а все, что случилось с ним — это такие сказочки. История про время варваров, которое наступает.
— Если уже не наступило.
— Мне кажется, такая точка зрения — это позитивный взгляд на мир. Что, у нас расстреливают на улицах? Нет, все только начинается. Но все равно, есть такая вещь, как идеализм. И есть люди, которые что-то делают вопреки. Среди них даже попадаются те, у кого что-то относительно получается. Даже в самые сложные времена был Мейерхольд, тот же Эйзенштейн. Они пытались что-то сделать, выпрыгнуть из этой реальности, встать над ней. Мне интересно говорить про таких людей, потому что я сам так устроен. Потому что я в это верю. Поэтому я рассказываю не про девочку, которая уехала в Лондон — как сделала бы любая нормальная девочка — а про ту, которая осталась и начала заниматься этим домом. Вот в чем разница.
— Что ты вынес для себя после работы над «Электрическими облаками»?
— Я помню время отца: у них всегда были огромные компании по 30-40 человек, в них спорили, говорили про искусство — и все были разными.
Мне сегодня не хватает этой синергии художников, скульптуров, писателей. Не хватает бурления жизни. Вот Ленка, моя жена — она сумасшедшая, не здоровая. Может сидеть двадцать часов и на миллиметр переставлять букву в афише. Но мне интересно с сумасшедшими. Интересно посмотреть фильм Федорченко «Ангелы революции» — потому что я знаю, что Леша безумен каким-то правильным безумством. Интересно, что сделает Илья Хржановский когда-нибудь...
Но это редкость, сегодня чаще все какое-то форматное.
Не знаю, этот фильм настолько мучительно давался. Столько раз меня посылали с разной степенью вежливости. Сколько людей обещало помочь и пропадало. Столько было моментов, когда нам казалось, что мы не сможем закончить. А потом нашлись замечательные люди, которые нам помогли.
Я довольно четко понял на этом фильме, что количество энергии, которое тебе отпущено, прежде чем ты превратишься в пустышку — оно ограничено. Суета, деньги, каждая съемка рекламного ролика, каждая гадость что-то у тебя отбирает. Так что я, конечно, переоценил свое отношение к людям, устройству жизни и вселенной.