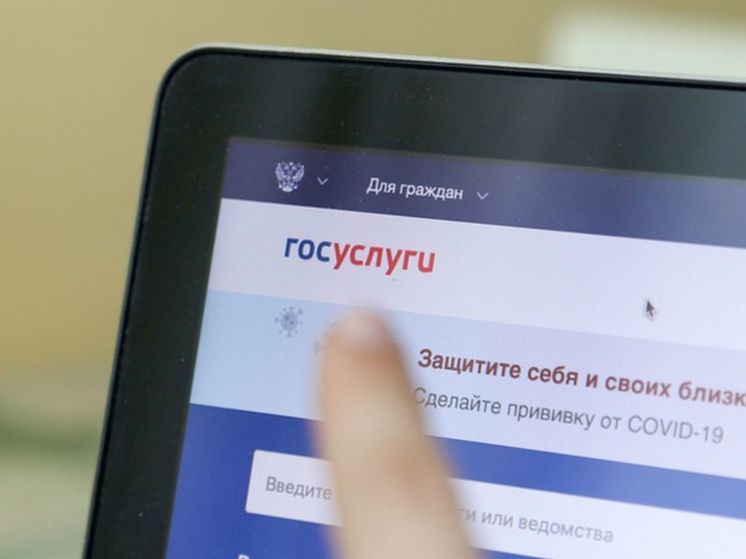СПРАВКА "МК"
Художник Игорь Новиков известен в России и за рубежом. Степендиат ЮНЕСКО, действительный член РАХ. В конце 80-х годов примкнул к движению нонконформистов и стал одним из основателей московского арт-сквота в Фурманном переулке. Сегодня его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее Людвига в Будапеште и других собраниях по всему миру. Фирменным стилем художника стали пиктограммы — красные и белые человечки-знаки, которых Новиков внедряет в сюжеты узнаваемых пейзажей или в картины классиков. Новиков наполняет новыми смыслами произведения своих предшественников, тем самым создавая собственные высказывания, посвященные чаще всего российской истории и проблеме обесценивания человеческой индивидуальности.
Теремок андерграунда
— Когда ты осознал себя как художника?
— Мой дед был художником, отец, Алексей Иванович, — художник. Из разряда неофициальных. Сейчас смешно об этом говорить, а раньше если ты синим красишь землю, то могли и запретить. У папы всегда были проблемы, и он говорил: «Зачем тебе быть художником, если не можешь писать как видишь?» Но я все равно пошел в художественную школу. Там отцу сказали, что Игорю надо идти дальше, в училище. Он холодно согласился. Редко пускал меня в мастерскую — это было для него таинством. Мои рисунки он видел дома, и однажды по-настоящему оценил. Именно папа посоветовал мне преподавателя, который не забивал академизмом. Но художником я почувствовал себя только в Суриковском институте, когда начал делать свое. Отнес тогда на молодежную выставку работы — взяли. Это был 1982 год, кажется. Я с интересом изучал академическое искусство, но никогда не хотел быть Репиным. Зачем? Это уже было. Я искал свое и, когда начал экспериментировать с красками и сюжетами, почувствовал в себе художника.
— Как появился арт-сквот в Фурманном переулке?
— Мы с друзьями-художниками вечно искали, где притулиться. В советское время это было проще. У меня была квартира на Курской, я искал мастерскую в этом районе. Познакомился с одной директрисой ЖЭКа, подарил ей картину, и она сказала: «Найдем». Мне сначала показывали чердаки и подвалы, а потом выяснилось, что в Фурманном переулке расселяют дом. Директриса ЖЭКа предложила мне там квартиру, взамен попросила писать плакаты с лозунгами — коммунистическими и праздничными. Я шрифты никогда не умел делать, но у меня был товарищ — Фарид Богдалов, который много раз пытался поступить в Суриковский институт и никак не мог. Я предложил ему заняться лозунгами, он согласился. Нам дали по квартире в расселенном доме, Фариду еще и заплатили. Плавно, один за другим, к нам стали подселяться другие художники: АЕСы, Юра Альберт, Леня Пурыгин, «Мухоморы», «Чемпионы мира». Некоторых я даже не знал. У каждого была своя компания. Нас объединил дом — как теремок. Три года мы там рисовали.
— Мастерские стали точкой притяжения. Какая там царила атмосфера? И как все кончилось?
— По соседству строился квартал для высокопоставленных военных. Когда генералитет узнал, что художники захватили дом и не хотят отдавать, прислали взвод солдат и все наши вещи оказались на улице в течение получаса. А пока были мастерские, туда приходили многие. Часто иностранцы. Мы шутили над ними. Стоит ведро с краской, а из него палка торчит. Иностранец спрашивает: «Сколько за арт-объект?» Художник ему: «$10–15 тысяч». «Недорого!» Но все стремились попасть к нам. Приезжали делегации и говорили Таиру Салахову: «Не, мы не хотим в ваш «Манеж», хотим в Фурманный переулок». И Салахов, скрипя зубами, вел.
— Ты ведь учился в его мастерской в Суриковском?
— Да, до пятого курса. Уже на третьем-четвертом курсе устал рисовать натуру: четыре года в школе, четыре — в училище, шесть — в институте — надоело. На пятом курсе решил спеть дембельскую песню — написать последнюю обнаженную натуру. Это была обязательная работа перед выходом на диплом. Прихожу в класс, а натурщица не выходит, говорит, будем ждать Айдан Салахову. А она училась со мной, на курс младше. Я возмутился. Оказалось, что это подруга Айдан; в итоге дочь пожаловалась на меня отцу. И он сказал, чтобы я уходил из мастерской, и я ушел — к Виктору Цыплакову.
— Что тебе дал Таир Салахов как учитель?
— Больше мне дал отец, не последний художник, и его друзья — а это суперзвезды, как Виктор Попков. Они часто встречались на художественных базах, но мы и семьями собирались, отец водил меня в мастерскую к Попкову.
— Стиль Попкова не зря называют суровым. В жизни он был таким же?
— Да. У него был тяжелый взгляд. Бывало, сидим компанией, все болтают, веселятся, а он вдруг скажет кому-нибудь: «Выйди вон». Прямо как Высоцкий. Резкий человек. Поэтому он и получил пулю. Остановил машину, а она оказалась инкассаторской; Попков что-то брякнул, и его застрелили. Лысый, маленький, грозный… Подумали, наверное, что зэк. Ему выпала сложная жизнь, были гонения на него, хотя он человек знаменитый. Он был как орел. Крупные художники не могут в коллективе — он был сам по себе. Я такой же.

Люди как схема
— Как ты нашел собственный стиль пиктограмм?
— Это было еще до Фурманного переулка — в начале 1980-х. Я оттолкнулся от Рене Магритта. Увидел его работу, где люди летают, и решил свои фигуры тоже поднять в небо. Пиктограммы пришли сами собой. Я увлекался пещерной живописью, а на севере — в Сибири и на Алтае — рисовали простые фигурки. Многие почерпнул из русской иконописи — в ней много геометрии. Обобщение фигуры человека давно существует в искусстве и имеет мистический подтекст — так древние люди настраивали себя, чтобы победить природу. Я оцифровал человека и превратил фигуры в символы. Стал помещать их в классические пейзажи. Пиктограммы на образном фоне создают напряжение, наполняют его смыслами и подтекстами. Люди-марионетки, люди-схемы — они везде. История искусства движется циклично, то сосредотачиваясь на образах, то уходя в символы. Я соединил и в то же время противопоставил знак и образ. Мои первые пиктограммы были молящимися, как на иконах, потом появились ползущие, бегущие, идущие фигуры. Первый большой цикл был черно-белым.
— А когда начал помещать пиктограммы на классические скульптуры?
— Скульптуру я любил с детства, потому что отец вырезал из дерева. Меня тянуло что-то на скульптуре изобразить. Начал я с Ленина. Потому что в 1987 году мне досталась мастерская в Бауманском районе, где до меня был красный уголок с целой коллекцией бюстов Ленина. Я начал их раскрашивать — в черный, синий, желтый, а потом и рисовать на них пиктограммы. Иногда получалось, будто Ленин весь в тату из людей-схем.
— Как бы ты описал время, на границе застоя и перестройки, в искусстве?
— После института я попал в Комбинат живописного искусства (КЖИ — государственная художественная мастерская, существовавшая в Москве с 1951 по 1990-е годы — М.М.). Там председателем был Альберт Папикян, заслуженный художник. Я написал для комбината несколько работ. Одну делал в Азербайджане, куда мы поехали вместе с Таиром и Айдан, к тому моменту все неурядицы были забыты. Салахов дал нам «Волгу», на которой мы добрались до далекого совхоза, где я написал пейзаж в духе Сарьяна. Яркие цвета, сочные краски, нестандартная композиция. Когда Папикян его увидел, у него глаза на лоб вылезли. «Где вы такое небо видели?» — кричал он. — «Переписать!». Я не стал, конечно. И такой подход был везде: полагалось писать серой, как грязь, краской с легкими мерцаниями цвета, приглушенно так. Лошадка, снежок, березка, туманчик — все размазанно, живописно. Это был советский канон, который существовал с 1930-х по 1985-й примерно.
— Насколько хорошо тогда ты знал русский авангард, зарубежных художников?
— Мне повезло. У нас дома были книги — папины. Я видел Миро, Пикассо, Бранкузи, Шагала, Кандинского, правда, часто на черно-белых репродукциях. Но в институте об этом нельзя было говорить. Благодаря Таиру Тимуровичу на выставках стали появляться другие художники: Наталья Нестерова, Татьяна Назаренко, Евгений Струлев... Но в основном царил социалистический реализм. В итоге почти никто с моего потока не стал художником. Только Айдан Салахова, Коля Ватагин и Сережа Оссовский. Остальные пропали.
Сейчас опять появляется канон. Почему у нас нет коллекционеров? Люди, которым сейчас 50–70 лет, учились по сборнику «Родная речь» — росли на Шишкине, Репине и Сурикове. Авангардное искусство для них — непонятные кляксы. Новый коллекционер, воспитанный на постсоветском искусстве, как-то не народился.
— Когда искусство начало тебя кормить?
— Когда приехал в Швейцарию с выставкой работ из Фурманного переулка. Я поехал туда как основатель арт-сквота. Сначала, в 1989-м, была большая выставка в Польше, потом, в 1990-м, — в Швейцарии. Председатель ЮНЕСКО в Швейцарии из городка Ла Ша де Фона, где родился Ле Корбюзье, Жан-Пьер Броссард издал в Швейцарии книжку о Фурманном переулке и организовал выставку в музее Мартини. Потом нашелся один бельгиец, который купил всю коллекцию — от каждого автора сквота там было представлено по три-пять работ. Он хотел показать проект в Нью-Йорке, но началась война в Сирии. В итоге все картины повисли на границе Франции и Швейцарии, в небольшом городке Ла Локль. Они и по сей день там. Но в результате этой поездки я остался в Швейцарии, получил стипендию, мастерскую, прописку. Там у меня появился галерист, который занимался моими выставками, продавал работы, делал каталоги. Там коллекционерам не надо объяснять, зачем тут точка или почему художник порезал холст бритвой, а нашим надо каждый штрих доказывать.

Выход в русский лес
— После отъезда в Швейцарию как часто бывал на родине?
— В основном находился там, но приезжал сюда время от времени. В 1993-м сделал тут персональную выставку в Третьяковской галерее. А в 1994-м участвовал в первой большой выставке нонконформистов в Петербурге.
— Что тебе дала Швейцария как художнику помимо признания и заработка?
— Там я полюбил Клее и ушел в цвет. Стал разрушать свои фигуры и собирать заново. От черно-белого совсем отказался. Сейчас я опять здесь и понимаю: за рубежом ты теряешь силу. Ты начинаешь быть красивым, правильным, делаешь все аккуратно, ровно, но в работе нет силы. Нет энергии. А в России ты видишь, как пьяный мужик матом ругается, и чувствуешь: родина!
— Когда и почему вернулся домой?
— В 2013 году одна знакомая сказала: ты живешь там, а тут тебя уже никто не знает. Меня это задело. Я решил вернуться и работать тут с музеями, а не с галереями. Сейчас много выставляюсь в разных городах: Воронеж, Тула, Ярославль, Рязань, Плес, Владимир, Кострома, Тверь. Встречаю там много умных людей, которые интересно реагируют на мои работы, разгадывают шифры по-своему. Мне важна обратная связь. Тем более что про свои работы сам говорить не люблю. Картины должны говорить сами за себя. Недавно закончилась моя персональная выставка в Петербурге. Директриса музея «Эрарта» посчитала, что моя живопись и скульптуры сродни поэзии Маяковского. Она сама придумала концепцию и архитектуру выставки, я приехал только на открытие. Понравилось. Повесили под уклоном его и мои стихи, получилась интересная игра слов, совпадение смыслов и образов. Весь пятый этаж отдали моим работам, и большой зал достался инсталляции «Русский лес». Черный зал, белые деревья, красные человечки ползут. Прямо как на войне.
— С 2020 года, когда эта же инсталляция показывалась в Московском музее современного искусства, ситуация изменилась. Про что сегодня «Русский лес»?
— Про то же — про русский народ. Патриот — это не тот, кто пишет оды своей стране и говорит, что все прекрасно; это тот, кто думает и старается сделать ее лучше. «Русский лес» посвящен вечной теме: мы запутались, куда-то ползем, сами не зная куда. Уже больше 500 лет мы живем в эксперименте, который ставят над народом. Мы вечно ищем выход из русского леса, но не находим. В МоМА мне так и предлагали назвать выставку — «Русский лес», но я был против и предложил другое — Exit.
— В сегодняшнем моменте истории какой видишь выход?
— Мы опять запутались, но выход есть. Чем все кончится — непонятно. Мы переживаем сложный период. Выход один — прийти к созерцанию. Мир должен вернуться к открытости.
— Серия, над которой ты работаешь с 2021 года, называется «Игроки». О чем она?
— Она связана с романом Достоевского «Игрок». Мои герои поглощены игрой, и только она имеет значение. Они играют в карты, играют на скрипке, играют в жизнь. Моя задача как художника — передать время, в котором мы живем, через свой глаз, мозги, видение. Сейчас время игроков. Каждый играет в свои игры, но выигрывает всегда природа. Недавно я написал картину «Одиночество» из серии «Русские качели». На фоне разрушенного пейзажа на качелях зависла одинокая фигура. Это о балансе между душами, людьми, нашими страхами. Балансирование на качелях — это тоже метафора игры, где нарушен баланс.