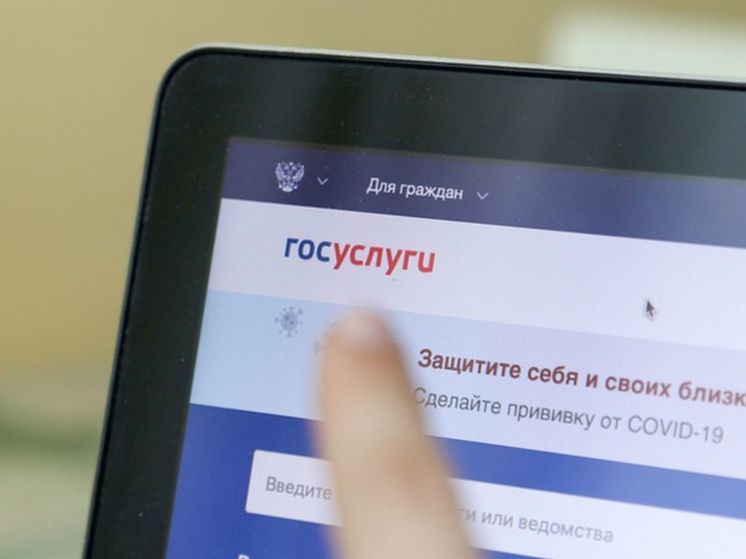Недавним событием на ахматовском небосклоне стала книга “Ахматова: жизнь”. Ее автор — Алла Марченко, литературовед, критик, за долгую жизнь написавшая множество биографий писателей. “Ахматова: жизнь” вошла в десятку бестселлеров, в шорт-лист премии “Большая книга” и вызвала массу споров. Никто не отрицает ни глубины проникновения, ни непозволительного субъективизма. “МК” пообщался с биографом Ахматовой.
— Недавно вышла скандальная книга Катаевой “Анти-Ахматова”. Сильнее размазать поэта было нельзя. Вы ее читали?
— Катаева отреагировала на негативное отношение к Ахматовой, связанное со сплетнями и банальностями вокруг ее личной жизни. Вот — бросила сына, поселилась, как кукушка, в чужом доме, отбила мужа, была белоручка, всех заставляла на себя работать. Высокомерничала, королевствовала. Эти сплетни заражают какую-то часть общества: “А, ты тоже такая…” Еще Пушкин говорил о Байроне: может, великий поэт мерзок и гадок, но все-таки не так, как вы. Есть еще и культ Ахматовой. Этот контраст между сниженным отношением и боготворением… Потом, сейчас вообще модно стаскивать с пьедестала, разбивать мифы. Постмодернизм жару подбавил. И у Ахматовой нет охранной грамоты. Но ничего тут зловредного нет — искусство время от времени надо профанировать. Ему ничего не сделается от этого. В ближайшее время — да, это ужасно. Но все вернется на свои места по неизбежности обратного толчка.
— Профанация идет еще и от незнания. Не все помнят про ее “Реквием”, как ни печально. Зато стихи про перчатку замусолены донельзя.
— Она против этого была. Последние годы она даже старалась не читать стихов — неизбежно публика просила “Сероглазого короля”, “Сжала руки под темной вуалью…”. Но это уже старая женщина, пережившая все… Она ведь точно сказала: “Мы ни единого удара не отклонили от себя”.
— Во дворике ее дома в Питере, где сейчас музей, мне показывали конкретную лавочку под окнами, где сидел кагэбэшник. Было такое?
— Это устное предание. Но надзор над нею велся. Не знаю, были ли, как ей казалось, какие-то передатчики, позволяла ли это техника в то время. Кругом падали бомбы: к ней приходила Татьяна Гнедич — ее арестовали. Арестовали ее подругу Валерию Тюльпанову — она что-то сказала в очереди на нервной почве. Ахматова ее уже после смерти Сталина еле вытащила из лагеря и даже пенсию ей пробила. Уж не говоря про ее спутника Николая Пунина, про сына, про Гумилева, Мандельштама, Пильняка… Пространство для жизни сужается, как шагреневая кожа…
— Еще до вашей книги выходили ваши публикации о том, что стихотворение “Годовщину последнюю празднуй…” написано до ареста сына. В чем тут история?
— Об Ахматовой говорят, что главным для нее были мужчины, а на сына наплевать. Она гуляет с мужчиной по ночному Ленинграду и празднует “веселую годовщину” их любви. “В сердце веселье и страх”. Писать такие стихи, когда твой сын сидит в Крестах? Пишет “Семнадцать месяцев кричу,/Зову тебя домой, /Кидалась в ноги палачу —/Ты сын и ужас мой” — и одновременно гуляет с любовником? Значит, это неправда, одни слова? С Владимиром Гаршиным они познакомились в феврале 1937 года, а в 38-м справили годовщину. Ахматова же очень любила даты, годовщины, совпадения, над ней даже посмеивались. В эти дни сыну ничто не угрожало, он даже на лекции ходил. Уже Бухарин сидит в тюрьме, Мандельштамы приехали из Воронежа, Пунин здесь... Неделя, когда верится, что вроде бы нас обошло. Но уже через неделю все рухнуло, 3 марта того же года арестовали ее сына. А стихи уже написаны. Иногда очень важна датировка.
— Какие ваши находки литературоведа отражены в книге?
— У нее были очень сложные отношения с Гумилевым. Мне кажется, что я сумела эту линию протянуть через всю книгу. После его смерти началась другая жизнь. “Когда человек умирает, изменяются его портреты”. Как у всякой женщины, жившей долгую жизнь, у нее были всякие увлечения. Но среди всех ее мужчин он единственный прошел испытание на героя. А вся остальная жизнь осталась “Поэмой без героя”. Поэтому Гумилев в “Поэме без героя” тайно присутствует. И она об этом говорит. У нее есть очень странное стихотворение, которое все относят то к Пунину, то еще к кому-то, — “Через 23 года”. Оно кончается так: “И по имени — как неустанно/Вслух зовешь меня снова... “Анна!”/Говоришь мне, как прежде, — “Ты”. И я сумела найти доказательства, что эти стихи относятся к Гумилеву. Она сама говорила: ее разговор с Гумилевым не прекращается.
— Все поэты всегда просят, чтобы их стихи не связывали с биографией. Вы не преувеличиваете в этом смысле?
— “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда”, она сказала. Сор — не тот, который выносят из избы. Вяземский, которого Ахматова очень любила, называл это “пестрым мусором общежития”. Я оговариваю в книге, что отнюдь не все ее стихи связаны с биографией. Анна Андреевна сама говорила, что я могу в воздухе поймать фразу и сделать из нее стихи. Лукницкий спрашивает у нее, кому какие стихи посвящены в самой ее напряженно-любовной книге “Четки”. “Да никому, — она говорила, — просто настроение было такое”. При этом она никогда ничего не могла выдумать и написать того, что не было почувствовано, пережито, даже если в другой обстановке, в другой момент.
— А что вы отвечаете на обвинения в сильнейшем, при всех достоинствах книги, субъективизме? Вот вы описываете сцену, где Ахматова читает Пастернаку “Я к розам хочу, в тот единственный сад…”. Да, Пастернак позволил себе “нелецеприятное”, как вы пишете, суждение. Пастернаку можно. Но вы от себя называете концовку стиха “не просто банальной”, а “оскорбительно профанной”.
— Да. Я не против. Я понимаю, что это очень дерзко, грубо, безапелляционно. Может, я превышаю какую-то допустимую грань. Может быть, я туда, где положено ходить в чулках, явилась в босоножках. У меня не было панибратского отношения к ней. Она меня интересовала как характер. Понять, что же она такое. Она уже классик. Но то, что она рассказала о людях своего времени, о женщине, об отношениях между мужчиной и женщиной, никакая наша другая поэзия или проза не рассказала. Книга действительно написана не так, как пишут литературоведы. Там много реконструкций, нон-фикшн и фикшн в одном флаконе — это считается не комильфо. Называли “фантастическим литературоведением”. Но я считаю, что это для читателей стиха, а не для литературоведов. Мне хотелось добраться до нее настоящей. Она сама говорит: “Оставь, и я была как все./И хуже всех была./Купалась я в чужой росе./В чужом овсе спала”. “Какая есть! Желаю вам другую”. Какая она есть, как я ее вижу. А настоящей правды не знает никто.