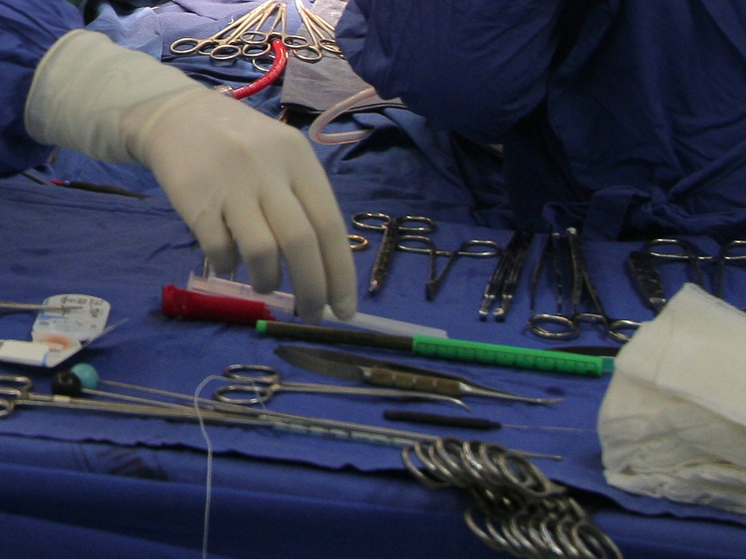Ну кто еще, скажите, может на бетховенские сонаты, то есть, по сути, на самое интимное, камерное музицирование на пару со своим вечным партнером Итамаром Голаном (фоно), набить самый что ни на есть Большой зал консерватории?
Кто может снискать себе почти одинаковую славу и как скрипач, и как альтист — причем славу подлинную?
Кто — и, вероятно, это единственный случай — может в 13 лет греметь на весь мир, победив в юношеском “Евровидении” и впоследствии не затеряться, войти в зрелый возраст, отстояв свою взрослую, не “вундеркиндскую” славу?
И кто теперь при всех регалиях ходит на чужие концерты для того, чтобы прокрасться за сцену, с соизволения дирижера сесть в оркестр на последние пульты и играть-играть-играть, заново открывая в себе музыканта?..
Беседовать с ним — наслаждение, Рахлин — обаяние и бархат, несмотря на русский с немаленьким акцентом. Удивительно, что вообще его знает: родился в Вильнюсе, с двух лет жил в Вене, да и сейчас в России гость редкий…
— Слушайте, я не в курсе последних событий в вашей жизни: хоть вы-то не подались в дирижирование?
— Подался. Долго к этому шел — с двух лет сидел на репетициях симфонического оркестра (папа-виолончелист брал с собой), и так захватывало! Конечно, до последнего момента смеялся: уж я-то эту дурость не сделаю, в дирижеры не пойду. Все так говорят, Ян. И все нарушают свои обеты. Несмотря на явный скепсис дирижеров настоящих, которые нас, инструменталистов, с палочкой в руке не воспринимают, не упуская случая для легкой издевки.
— В этом много правды.
— Музыка — это, по идее, тот же спорт: физическая миллиметровая работа, попадание “куда нужно”. Когда ты маленький, ты гибкий, на всё мгновенные реакции… А сейчас чувствуешь лучше, учишь дольше.
— Да и пристрастия, подозреваю, меняются.
— Конечно. Теперь-то, играя, я точно знаю, что именно хочу слышать на выходе — свою интерпретацию. Но, будучи солистом, все равно должен подстраиваться под конструкцию дирижера.
— А очень не хочется…
— Знаете, потребность услышать себя появилась после того, как на протяжении многих лет я играл с известными камерными оркестрами (до 40 человек), принципиально работающими без дирижера: они просто приглашают солиста, который — play direct по-английски — играет и ведет.
— Ах, вот кто вас развратил…
— Такие оркестры уж модны лет десять в мире, особенно в Британии.
— А чем вызвана подобная практика? Не экономией же денег?
— И этим тоже, кстати. Дирижеры-то дОроги. А еще… музыкантам интереснее работать с солистом. Солист по-другому видит. К тому же строится совсем иная иерархия: оркестрант сразу чувствует себя куда более важной персоной, чем он был при дирижере, он теперь сам практически солист. Психология — тонкая штука, люди-то сидят непростые, в хороший оркестр просто так не попадешь…
Сначала я робел, показывал им только телом, боясь что-то сказать или задержать больше положенного времени. Но оркестранты были благосклонны: “Пожалуйста-пожалуйста, работайте. У нас есть время. Хотите говорить — говорите”. Я осторожно открыл рот, сказал, как представляю себе отдельные образы в произведении, какие-то краски, предположил, как этого добиться музыкально. И дело пошло. А теперь вот беру уроки дирижирования.
— Представим вас дирижером…
— Нет-нет, это не значит, что я забросил скрипку или альт: дирижирование — процесс долгий, пока у меня очень маленький репертуар. Через пару лет хочу продирижировать симфониями Чайковского — их я обожаю. Как обожаю и Брамса.
— А вы можете испытать кайф от сидения в оркестре?
— Я?! Меня интересует эта тема со всех точек зрения — и с музыкальной, и с психологической. Есть же обалденный фестивальный оркестр в Люцерне, его создал Клаудио Аббадо. Собирается 2—3 раза в год, не чаще, но играют там люди выдающиеся. Очень хотел бы туда попасть. Важно чувствовать группу. Кстати, иногда это делаю…
— Делаю — что?
— Вот сыграю как солист в первом отделении, а в антракте спрашиваю у дирижера: можно ли мне сесть за последний пульт (на альт ли, скрипку — не важно) и играть с оркестром Пятую симфонию Бетховена? Тянет. Папа всю жизнь проработал на последнем пульте… Так что психологию оркестранта знаю хорошо, а это важно для дирижера — уметь ценить каждого. Может, когда-нибудь соберусь создать свой оркестр…
— Так это вам Цукерман сказал, чтобы вы, состоявшийся солист-скрипач, обязательно играли на альте?
— Сказал, что это важно именно для игры на скрипке. Слово учителя — закон. Стал собирать дома друзей на этакие party, все приходили с инструментами, открывали бутылку красного вина, ставили пульты, ноты, читали с листа ранние квартеты Гайдна. Так я делал первые шаги как альтист; а сейчас на каждом концерте даю вперемежку — сонату скрипичную, сонату альтовую. Если в процентах, то скрипка занимает 60% концертного времени, альт — 30%, дирижирование — 10%.
— Башмет, как человек, сделавший альт полноценным сольным инструментом, одобряет вашу игру?
— Да мы с 1993 года вместе музицируем! Башмет, кстати, классный скрипач, если кто не знал.
— Вы душою-то больше к скрипке или к альту?
— К виолончели. Я серьезно. Альт, скрипка — так… это все, по идее, не мое. А виолончель всегда любил. От папы это. Какой тембр!.. Играя на скрипке, представляю душу виолончели. Это трудно объяснить.
— А почему не стали виолончелистом?
— Это очень смешно: меня обманули, скрипку подсунув. Дело было еще в Вильнюсе в 1976-м, накануне нашей эмиграции; мне 2,5 года. На пластинке только вышла потрясающая запись Ростроповича, который с Берлинской филармонией (и Караяном за пультом) играет виолончельный концерт Дворжака и Вариации на тему рококо Чайковского. В Дворжака я влюбился, запись крутилась целый день: едва последний аккорд замолкал, я показывал пальцем на проигрыватель: хочу еще. Садился на табуретку, брал зонтик, палку и водил палкой по зонтику, подражая. Бабушка с дедушкой (кстати, не музыканты) не смогли более терпеть этого издевательства и в один день пришли домой со скрипкой: “Вот тебе, внучек, виолончель!” Скрипку я ставил вертикально, пытаясь играть на ней как взрослый, но вскоре папа взял меня с собой на репетицию, и я понял, что меня обманули.
— Вас целенаправленно водили на репетиции…
— Да какой там! Как раз мама с папой не хотели из меня ничего делать, никаких там музыкантов, наоборот… И слава богу. У меня было нормальное детство, его никто не отнял, не украл. Хотя я всех умолял учить меня музыке (родителям не до меня было особенно — приехали в Вену, жизнь с нуля, без денег, без языка). И только в шесть лет я дождался своего первого педагога.
— Хотя и начали в 6 лет, а не в 3, карьера развивалась стремительно…
— Все приходят в музыку своими тропами. Уже в 8 лет я учился у Бориса Кушнира (Венская консерватория), с 13 пошла моя сольная карьера — как раз с того момента, как выиграл “Евровидение” в Амстердаме. Тут же свалились концерты, приглашения — всё это довольно опасно в таком возрасте. Многие ломаются. В 13 лет ты гений, а в 20 — уже всё, приехали. И у меня в 19 лет наступило самое психологически трудное время — когда начинаешь осознавать суть происходящего, что стоишь с великими дирижерами на одной сцене. Но ты еще ни рыба и ни мясо, ни мальчик и ни мужчина. Все от тебя ждут чуда, в спину дышат вновь родившиеся вундеркинды. Испытывал в ту пору проблемы с выходом на сцену. Но вроде пронесло.
— И никакой альтернативы музыке не было…
— Почему? Еще футболистом хотел стать. Хорошо играл во дворе с мальчишками…
— Да вы что… Это какая-то патология: Мацуев, Горенштейн…
— Да-да, я тоже помешан. И до сего дня, где бы ни выступал, если нет вечером концерта — я на стадионе. Болею за нашу венскую команду “Рапид”; однако в Австрии с футболом очень-очень слабо, увы. Так что, по большому счету, болею за южноамериканские команды, Аргентина нравится. В последнюю секунду со скандалом она прошла на чемпионат мира, но не знаю, возьмут ли Марадону в качестве тренера… Марадона — мой главный идол, обожаю его и считаю даже гениальнее, чем Пеле.
— Разговариваешь с вами — ну русский и русский, свой, никакой стены, никакой иностранщины… Хотя вы часто говорите, что Вена — самый родной город.
— Слава богу, хоть чуть-чуть сохранил разговорный язык, хотя читать и писать, пожалуй, уже не смогу. Вена действительно город особый (хотя я уютно чувствую себя и в Москве, и в Питере, где познакомились мои родители). Все очень смешано. Я австриец и… не очень австриец. Я еврей, но… скажем, не религиозный. Еврейские праздники в семье не праздновали; к тому же, приехав в Вену, родители не хотели, чтобы я был каким-то странным, меня отдали в обычный детский садик, мы переняли традиции, католические праздники… А по идее, кто я? 280 дней в году в разъездах, вот кто.
— Вам отели заменяют дом?
— Нет, мне очень важно иметь “базу”. У меня не дом, но любимая квартира в Вене. И домашнюю атмосферу обожаю, люблю позвать гостей, люблю готовить… Пусть я останусь там всего на пару дней в месяц, но и эти два дня очень важны в этой безумной круговерти по воздуху.
— Кстати, вы упомянули про готовку…
— Ну да, иду на рынок…
— То есть все по-настоящему, никаких там заказов пиццы на дом?
— Нет-нет, все только свежее! Да и готовлю не по книгам, а по чувствам. Научил меня близкий друг детства скрипач Алексей Игудесман (хорошо известен в России). Он гениальный повар. А я перенял… Это целая процедура: сначала на вечер зовешь друзей, идешь на рынок, закупаешься, начинаешь фантазировать… Потом прибегают друзья и уничтожают все содержимое.
— Пускаете в свой репертуар современную музыку? Ту самую, которую слушатель считает не всегда удобоваримой…
— Современную музыку играю, и много, но только ту, которая лично мне нравится. Которую понимаю. А иначе… Ну представьте, если мне она непонятна, что тогда от слушателя ожидать?! Трогают произведения Пендерецкого (особенно его последний 20-летний период), играю музыку американской композиторши и блестящей пианистки Леры Ауэрбах, французского композитора Ришара Дюбунона. Гия Канчели для меня сейчас пишет любопытнейшее произведение, во время которого прямо по ходу я перехожу со скрипки на альт; премьеру исполним в сентябре 2010-го на моем фестивале в Дубровнике. Пендерецкий пишет симфонию для скрипки, альта и оркестра (премьера в 2012-м). Такое удовольствие работать с живым композитором, видеть, когда ему исполнение нравится!
— Как вы умудрились за долгие годы вашей карьеры просуществовать на сцене исключительно с одним постоянным партнером-пианистом Итамаром Голаном?
— А ведь правда, какие дуэты были? Ойстраха с Фридой Бауэр. А еще? А мне всегда хотелось иметь именно дуэт — иметь рядом человека, с которым ты вместе дышишь, вместе растешь много-много лет. С которым ты одно целое. Да, всегда приятно поиграть с кем-то, с кем ты никогда не играл, — это освежает. Но то, что у меня с Итамаром, — это гораздо глубже сиюминутных желаний. Я играю с ним с 1996 года — 90% всех своих концертов. Он камерный гигант. Как солист не выступает. Не хочет. Всегда отказывается. Хотя ему постоянно предлагают.
— Это фантастика — найти такого пианиста, который убил бы свое “я”, сказав, что звезда — это Рахлин, а я лишь камерный пианист…
— Нет-нет. Он тоже звезда, настоящая звезда камерной музыки. Его знает весь мир. Именно у него я научился играть сонатный репертуар, о чем раньше и понятия не имел, ведь сонаты — это особое, ни с чем не сравнимое искусство. Мы потрясающе близкие друзья. Ведь для меня всегда на первом плане человек, его личностные качества, и только на втором — качества профессиональные. Может, я дурак, неправильно мыслю, но иначе не могу. Никогда не буду играть с человеком, который мне неприятен, у которого… человеческие качества не в порядке.
— А такое бывает?
— У меня — нет. А вообще — на каждом шагу. Играют музыканты вдвоем, а в жизни вовсе не общаются. Но как можно прикасаться к гениальной музыке с тем, кто тебе неприятен? Тем более к музыке камерной? Это же три часа интимнейшего музицирования! Мало концерт, а если это турне по миру, и этих концертов 20? И ты с этим человеком проводишь целые дни напролет — в самолетах, гостиницах, переездах-перелетах…
Бывает, что мы спорим с Итамаром — это нормально. Но до разрыва никогда не доходило. Кто-то сказал, что камерная музыка — это игра компромиссов. И эти компромиссы мы с Итамаром всегда находили. Иначе невозможно — ни в жизни, ни в музыке. “Компромисс” — неплохое слово, я считаю. Да, ты приспосабливаешься. Но я должен быть всегда открыт именно к диалогу, иначе… иначе очень быстро начинаешь умирать как музыкант.