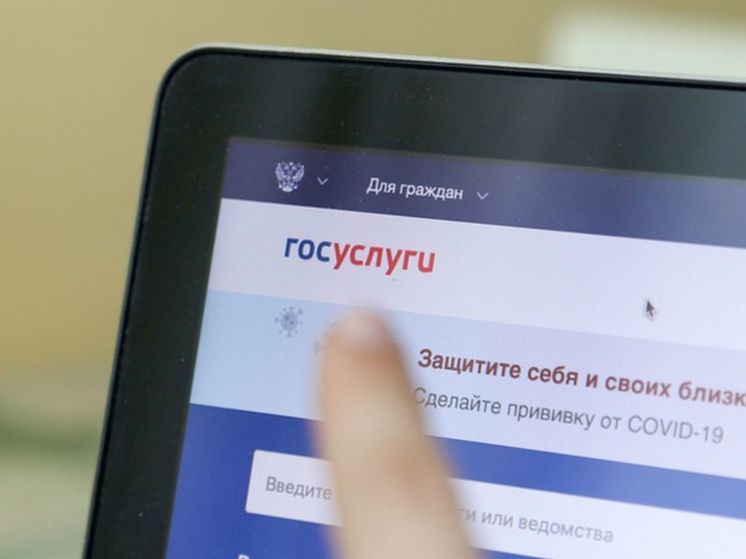Тридцать лет от роду — а уже значительный? “Да мало ли таких в его возрастной категории!” — воскликнет кто-то. А не скажите. Достаточно послушать те же сонаты Мендельсона в его исполнении на органе филармонии Минеральных Вод — к его звуку тянет. А это редкое свойство. Обычно другое: органист самовлюбленно из тебя вытягивает все соки, заставляя с трудом переваривать набор невыразительных пассажей. А вот чтобы так легко началась музыка, чтобы ушла внешняя органная “тяжеловесность”, чтобы “орган ради органа” перестал машинно доминировать над произведением, над его музыкальной интригой, — вот это и есть руки Волостнова. А уж после — можно и традиционный “послужной” привести: лауреат конкурса в Чехии, премия Дугласа Мэя на фестивале в Сент-Олбанс в Британии, победитель Шрамберга, первая премия на Московском конкурсе им. Гедике, — но это все обычному слушателю до фонаря.
— Выстрел органной бациллы в голову произошел очень рано — лет в восемь, — начинает Костя.
— А казалось бы, нормальный ребенок рос…
— Да не совсем я нормальный, в том-то и дело!
— Спасибо, что предупредил.
— Вышло так: по телевизору заставки показывали. На космическом небе под хоральную прелюдию Баха появляются лики великих (Энгельсов-Марксов-Пушкиных), тут я и цепенел…
— От Маркса?
— От Баха! Или часто крутили какой-нибудь концерт в БЗК, скажем, Светланов дирижирует симфонией Чайковского. И мама мне: “Вот посмотри — что это там за оркестром стоит? Думаешь, рисунок или декорация? Нет. Это орган”. Орган? Неужто? В общем, я увлекся — и с этой минуты семья (родители, кстати, экономисты) потеряла покой. Повернулся на органе абсолютно.
— А что ж ты в Мерзляковке учился на теоретика? Потому что звезд с неба не хватал, будучи пианистом?
— Как резко-то, а?! Скажу искренне: мне с самого начала было интересно, как устроена музыка, как она сделана. Большие механизмы воодушевляли, со сложными взаимосвязями: вот орган — много труб, целый завод, какие-то таинственные перетекания, конструктивные находки!.. Влечет то, что непонятно. Короче, сказал маме: “Хочу на органе!” И мама начала в это верить. А я к тому времени, конечно, уже играл на фортепиано. Ну не так, как играют в ЦМШ, где с пяти лет осваивают “Детский альбом” Чайковского, — там же, в ЦМШ, все на этом построено: выживает сильнейший. В итоге, может, ты и прав: пошел на теоретика, потому что для фортепианного отделения было недостаточно во мне какой-то крепости, наглости, профессиональной стенобитности. А ведь это играет решающую роль в нашем становлении как музыкантов…
— Что — и в 14 лет надо уметь проламывать стены?
— А то! Еще бы! Если ты идешь на пианиста-солиста и в 14 лет не играешь целиком Второй или Третий концерт Рахманинова — ты ноль, ничтожество… А то, что играть этот концерт в 14 лет — глупость, никто не задумывается. И я прекрасно понимал, что не в силах сражаться с этими монстрами, вундеркиндами. И был совершенно, кстати, спокоен. Целил в науку. Мечтал об органе. И первую ценную информацию получил о нем от моего замечательного педагога Алексея Шмитова — это он влюбил меня в рояль…
— “В орган” — ты хотел сказать.
— Нет, именно в рояль! Шмитов мне сразу сказал: “Теперь, как видишь, ты в моих руках. Будешь плохо заниматься на рояле — отстраню от органа!” И я так подсел, что, поступая позже в консерваторию, совершенно не испытывал проблем с фортепианной программой.
— Странно, обычно органисты стараются не акцентировать внимания на своих “рояльных” делишках. Верно, потому, что “в народе” им часто кивают: в органисты-де идут несостоявшиеся пианисты. Так важен рояль?
— Для органиста рубежа XX—XXI веков? Первостепенен! Да, еще лет 30 назад органисты, приезжая на конкурс, скажем, в Лейпциг, боялись признаться, что они — пианисты. Заклюют. Нынче же — наоборот, в той же Высшей школе в Штутгарте (где я учусь до сих пор в качестве аспиранта) огромное внимание уделяется фортепианной культуре. Ведь — ты не представляешь — весь романтический репертуар строится на владении пианистической техникой. Если с нею проблемы, Регера, Мессиана никогда не сыграешь.
— И сознание не раздваивается?
— Да ну, профессия все равно делает свое дело. Хотя я до сих пор какие-то органные вещи учу именно на рояле.
— И то и другое. Да, орган не всегда “под рукой”. Но я только рад этому в какие-то моменты: на рояле что-то можно проучить гораздо качественнее. И техническая крепость выучки выше, да и слуховые нюансы… если человек не понимает, как работает фортепиано, что такое туше, что такое фортепианное взятие звука или снятие, — он никогда в жизни не сыграет пьесы Шумана так, как мыслил их сам Шуман (сложнейший композитор!) — с выразительностью, нюансами, потрясающе тонкими завершениями фраз, мотивами… Это колоссальная работа, это умение продумывать произведение.
— Опа, продумывать? Быть ученым-философом? А вот так, чтобы играть на одном естестве? Разве нельзя? Вот вундеркинд может быть органистом? Чтоб все смотрели на него, 11-летнего, и, как по отношению к скрипачу или пианисту, пускали слюни: “Вот он, наше солнышко! Наше открытие!”?
— Это сложнее. Орган — гораздо более регламентирующий инструмент. Для того чтобы быть выразительным на органе, нужно элементарно много знать. Да, чувство естественности необходимо, но плюс к нему должны быть знания и навыки, которые тебе все-таки кто-то должен передать.
— Гениально играл?
— Ну, это было только виртуозно. И всё. Он играл очень длинный концерт — я тогда еще думал: боже, как он выдерживает?
— Виртуозно, но не…
— Понимаешь, когда ты играешь ля-минорный хорал Франка — ну, какой бы ты ни был вундеркинд, — тот пламенеющий экстаз перехода из одной жизненной субстанции в другую, восторг обретения вечности, радость творения и благодарность Создателю — ну невозможно передать это и прочувствовать в детском возрасте, исключено. И на органе это слышно.
— Так если нет глубины, что дает публике выступление вундеркинда?
— Как? Шоу. “Смотри, такой маленький, а уже на органе…”
— Шоу — понятно, бог с ним. А вот объективно — свежесть восприятия?..
— Да, безусловно: естественность выражения простых музыкальных мыслей. Это конечно. Но вот в чем закавыка: музыкальные мысли — не всегда простые. Ребенок может интуитивно нащупать правильный путь, но вот выразить их органно — труд весомый. И орган в этом смысле — самый сложный инструмент, очень много деталей, за которыми нужно следить, контролировать. Да и, ко всему прочему, орган — очень неподвижный инструмент в выразительном плане. Ты берешь звук — он гудит, всё. Звук можно только взять или снять по-разному — вот тут-то и начинается профессия, а за профессией — годы и годы… Я не слышал ни одного ребенка, который успешно владел бы на органе взятием и снятием, чтоб это было действительно выверено (одним наитием этого никогда не достигнешь).
— Только не подумай, что я наезжаю на вундеркиндов (хотя мне и ближе именно “зрелый, осознанный путь” — от 25 до 45 лет и выше, не яркая вспышка, а путь продолжительный).
— Да и я на них не наезжаю. Нельзя требовать от маленьких гениев того, что от них требовать не надо. Моцарт в 30 лет — это не Моцарт в 10 лет (да и вопросы есть — писал ли Моцарт в 10 лет эту музыку, не принадлежит ли она его папе?). И Бах в свои 20 — это не Бах в 45. И для гениев нормально, что человек растет. Не нужно в 15 лет ставить такие задачи, которые люди с трудом решают в 50 (или вообще не решают).
— То есть “показать класс” на органе — это позже?
— По возрасту? Ну да. Орган в этом плане наиболее объективный инструмент. Если чего не знаешь, не понимаешь — он просто ставит блок, не пройдешь дальше. По себе это знаю: мне, допустим, 30 лет, и я отчетливо понимаю, как много еще предстоит открыть, сколь многие вещи нужно в себе контролировать, в себе развивать…
— И орган никогда не раздражал?
— Нет, когда на нем плохо играли…
— Нет, вообще? Берет и раздражает.
— Что ты… Как это может надоесть? Музыка Брамса, Мендельсона — это каждый раз восторг, причем для меня это очень даже осязаемые ощущения; их музыка в хорошем исполнении — это как вкусный обед, фантастически приготовленный из продуктов, произведенных в каком-нибудь чистейшем регионе… Вкушая это, ты оздоравливаешься.
— Оздоравливаешься — когда слушаешь из зала, а когда сам за органом сидишь…
— Ну да, ну да: обидно бывает, ведь не получаешь удовольствия от общей картины, у тебя совсем иные балансовые соотношения между клавиатурами, голосами, регистрами. Ну что поделаешь. Но, кстати, это одна из особенностей в профессии органиста: уметь моделировать акустику, уметь слышать так, как это звучало бы в зале.
— Вот мне интересно: за что ты вообще полюбил органное звучание? Говорят же, что иные инструменты так или иначе имеют свой “аналог” в природе, скажем, похожи на человеческий голос. Не раздражают. А на что похож орган? Где его “первородное начало”? Часто сталкиваюсь с тем, что люди не могут его слушать долго, он чисто психологически все из тебя высасывает…
— Когда я полюбил этот звук, то совсем не думал, что это “воздух идет через трубу”, его техногенность не была довлеющей. Может, и есть в природе похожие завывания ветра…
— О да, прямо по Бодлеру: “Великие леса — вы страшны как соборы, ваш вой органа рев. И отзвуком звенит в покоях траурных, где дряхлых хрипов хоры, — в отверженных сердцах — плач ваших панихид”.
— …Впрочем, не считаю, что мою любовь определяет явная связь органного звучания с природой. Пусть кому-то орган кажется брутальным и грубым, пусть он сильно отдален от человеческого голоса — тут мы опять возвращаемся к существенным ограничениям в его музыкальной подвижности и выразительности. Но посмотри с другой стороны. Орган — это нечто идеальное, в основе его звучания самой физикой заложена стройная пирамида. И с одной стороны, орган — это четкая объективность, с другой — тотальная отстраненность, потому что орган как никто отвечает внутренней потребности человека к возвышению. К совершенствованию. И это видно не только из эстетических посылов, но и из его внешнего вида: на протяжении всей своей истории инструмент был очень внимателен ко всем достижениям науки, чуть ли не каждое из них в себе преломляя…
— Да, это очень важный, я бы сказал, футуристический аспект. Новшества “из внешнего мира” мгновенно проникали в орган.
— Однако же прогресс прогрессом, но ты против цифровых органов?
— Знаешь, можно и женщину искусственную сделать, но какой мужчина получит удовольствие от общения с такой? “Цифра” лишена тайны, а вот физические процессы, проистекающие внутри духового органа, — еще совершенно не изученная область знания. Да и будет ли изучена… один Господь знает.
— “Не поминай всуе”, но все же — для тебя принципиально, где играть: в церкви или в концертном зале? Стены храма предполагают какое-то особое отношение?
— Я к этому отношусь так: орган — сугубо концертный инструмент. Меня слушает публика — и какая разница, куда она пришла? Чем в данном случае церковь отличается от концертного зала? Ничем абсолютно. Но это совсем не перечеркивает постоянной взаимосвязи с Богом, опять же — абсолютно безотносительно, где бы ты в этот момент ни находился. Ведь что ни пьеса — то молитва…
— Молитва? А ведь частенько западные органисты открыто признавались мне, что они — атеисты. Атеисты, и точка.
— Брось, это позерство. Ну нельзя играть на органе и быть атеистом. Постоянное обращение к Всевышнему буквально входит в профессию, не отмахнешься. Вспомни псалом 150-й: “Славьте Его в делах мощи Его, славьте Его во многом величии Его! Славьте Его гулом труб (!), славьте Его звоном лютней и арф!” Постоянное чувство благодарности Создателю.
— Ясно, это как про скрипачей говорят: “Даже не еврей, двадцать лет проиграв на скрипке, автоматически превращается в еврея”. Но ведь в церквах орган частенько “забирается” на хоры, органист не виден, скрытен, а твоя концепция органа “как сугубо концертного инструмента” заставляет тебя постоянно заявлять о себе... Не теряет ли музыка сакральности?
— Не теряет. Органист не должен самоустраняться… Можно, конечно, попробовать, но кто решится на это? И Бах, и Регер были блестящими исполнителями-виртуозами, и, в конце концов, только на исполнителе лежит вся ответственность за качество…
— Так ли это? Мастер, интонировщик, куратор — разве не столь же главные действующие лица наравне с исполнителем? Но их имена не пишут в афише.
— Все эти люди нужны, слов нет, но вот ты садишься за орган и понимаешь, что пять часов репетиции тебе обеспечено для того, чтобы найти более-менее удобоваримое звучание, вытащить из инструмента его лучшие качества. И если писать после этого в афише, то с добавлением словечка “блин”:
— По поводу того, куда лезть можно, а куда — нет. Органное сообщество в России таково, что люди зачастую терпеть друг друга не могут… Или, мягче скажем, профессиональная ревность куда более заметна, чем в каких иных инструментах.
— Опять же — на то объективные причины. Если органист где-то занимает должность, “сидит на каком-то органе” (а их в России не так много), он — это действительно у нас распространено — стяжает монополию, главным для него, увы, становится не страсть к музыке, а страсть к власти… И я с этим сталкивался в своих гастрольных поездках, когда тебе откровенно мешают, просто срывая концерт. Приписка к инструменту — тому проблема…
— А как же публика? Феномен, который не перестает меня удивлять. В России строятся органы, уже лет пять-семь как начался мощный органный бум, но медиарынок никак не рождает органных звезд в плане их раскрученности. Мацуев, Спиваков — пожалуйста, а победитель иного органного конкурса…
— Мацуев и Спиваков — это национальные интересы России, а победитель органного конкурса никаким “интересом” не является. Вот тебе и ответ. А публика очень тонко на такие вещи реагирует. Опять же — Гродберг…
— Имперская фамилия, порожденная эпохой. А остальные? Афиши-то висят, а народ их не идентифицирует…
— Тому несколько причин. И международных в том числе. На протяжении многих лет органист в Европе был скован правилами: играть только так и никак иначе! Соблюдаешь правила — хорошо, а что за этим стоит — не суть. Так шли конкурсы, так взращивали детей. В итоге пришли к тому, что орган стало слушать скучно. Публике (да и исполнителям) не давали уникальных, ярких органных впечатлений. Расчет был на то, что орган сам по себе инструмент впечатляющий. Но долго на этом жить нельзя, это ж не аттракцион. Нужно, чтоб музыка была интересной, индивидуальной.
— Но органная среда не поняла этих сложностей…
— Конечно, ибо внутри себя она применяет вещи, с музыкой не связанные, — интриги и тому подобное. Мир органный — маленький, органов всего-то тысячи. Ты никогда не увидишь такого — снова к этому возвращаемся, — чтоб в филармонии стоял рояль, которым бы распоряжался один человек. А с органом именно так: кто на нем сидит, тот бог и царь. Отсюда все и растет. Кто его знает — какой он там органист, хороший или плохой? Но он “приписан” к органу, и все должно быть “по его”. Ну и дальше — по цепочке: если он член жюри, то и решает, кого приглашать, кого — нет. Зачем ему приглашать того, кто будет играть лучше него? Смысл? Чтоб все потом сказали: “А этот-то играет куда лучше, чем наш Вася!” Ему ж там жить, работать в этом городе. Вот это и привело к частичной потере органной публики.
— Консерватизм органной среды…
— Ну конечно. Ведь надо не об интригах думать, а о том, чтобы люди получали удовольствие от музыки (и чтоб имя композитора не страдало). Публика-то реагирует только на качество.