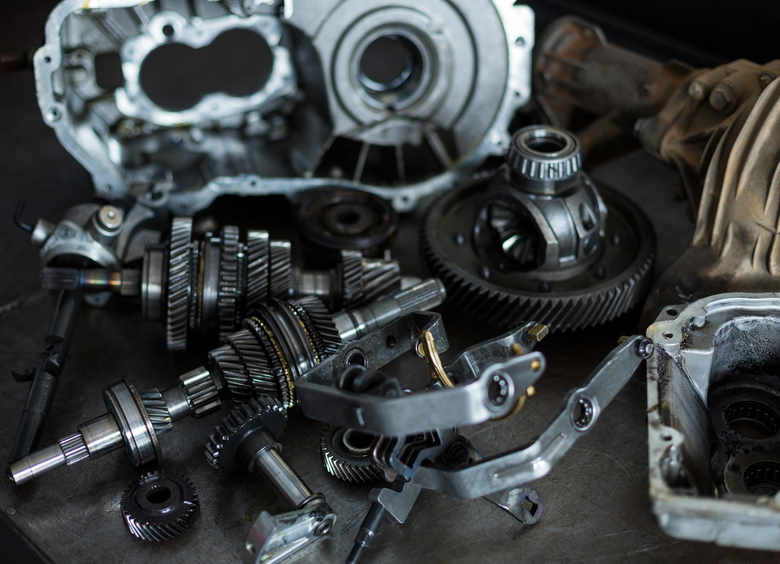Это произошло 40 лет назад. Август 1964-го выдался жарким. На карте мира разгорелось еще одно пламя — войны во Вьетнаме. После того как в Тонкинском заливе северовьетнамские катера атаковали американский эсминец, Вашингтон нашел “казус белли” — повод к вмешательству в вооруженное противостояние коммунистического Ханоя и прозападного Сайгона. Война оказалась неожиданно затяжной и кровавой.
“МК” удалось найти двух непосредственных свидетелей тех мрачных событий. Один — бывший американский морской пехотинец, другой — вьетнамский дипломат.
“Я страшно боялся, что меня убьют до того, как я сяду в самолет”
Тысячи американских парней отправились воевать на край света: кто по долгу службы, кто добровольно. Случайно мне довелось познакомиться с одним из них: американский дипломат, шеф представительства ФБР в Москве Джон ДИСТАСИО, с которым я однажды уже знакомил читателей “МК”, при нашей первой встрече обронил фразу, что попасть в ФБР ему помогло вьетнамское прошлое.
Тогда я и спросил его: может быть, будет случай рассказать о той войне? Какой она виделась с “другой стороны”? Он согласился.
Знает ли Джон, какая дата на календаре?
— И в голову не приходило, — признался он. — Даже и не думал, что сорок лет той войне. Впрочем, я прибыл во Вьетнам уже в 1969-м и больше всего боялся, что война закончится до того, как я попаду на нее. Мне еще и восемнадцати не исполнилось, когда я записался добровольцем в морскую пехоту…
Это было уже начало истории, и я включил диктофон. Но Джон сказал: “Не ждите боевых эпизодов, я не хочу вспоминать о том, как гибли мои товарищи. И вообще, я с большим подозрением отношусь к ветеранам, которые любят делиться своими военными воспоминаниями”.
“Тогда как мы будем говорить о войне?” — подумал я. Но мы говорили долго...
— То, что я совершил глупость, я понял, едва сошел с самолета в Дананге. Впрочем, нет, еще раньше — на Окинаве, где для прибывающего пополнения был устроен промежуточный лагерь. Там оказался большой склад, где мы сменили обычную форму на специальную — для джунглей. Каждому выдали по большой коробке, куда мы стали складывать наши вещи. Когда придет время возвращаться домой, нам эти вещи отдадут.
Коробки ставили на стеллажи, одна на другую — рядами, так что вскоре выросла пирамида до самой крыши. Я тоже поставил свой персональный “сейф” в эту пирамиду. Но, прежде чем запечатать коробку, на ней надо было указать свой адрес, по которому, если я не вернусь, ее отправили бы родственникам. Тут меня и проняло. Я подумал: “Джон, ты, кажется, кинул сам себя”. Мне стало страшно. Впервые за время моей вьетнамской эпопеи. За семь месяцев тренировок, что мы провели в США, до отправки на фронт, меня такие мысли не посещали.
Но в тот день все изменилось. Когда мы летели из Сан-Франциско на Окинаву, мы вели себя как компания подростков, собравшаяся на бейсбольный матч. А когда транспортный самолет вез нас с Окинавы во Вьетнам, то три с половиной часа никто ни о чем не говорил: полное молчание, только шум моторов. Этот склад, эти пара последних дней перед реальной войной были как холодный душ.
Дананг, в то время наша база во Вьетнаме, — красивый город, расположенный на берегу залива. Прифронтовой город: в воздухе полно транспортных самолетов и вертолетов, а на земле — солдат и военной техники.
Когда мы сошли с борта нашего транспортника, возникло ощущение, как будто попал в сауну: жара и влажность окутывали с головы до ног.
Однажды вечером мы пошли в бар для сержантов. Место выбрали на террасе, откуда открывался вид на горы, покрытые джунглями. Мы сами еще недавно были там на операции и отвыкли от вкуса пива и нормальной еды. Теперь наслаждались и тем и другим. В этот миг в горах началась жестокая перестрелка. Вечерело, на фоне темнеющего неба заметались трассы автоматных и пулеметных очередей. По этим трассам и многочисленным всполохам выстрелов мы видели, где наши позиции и откуда наступает вьетконг. Как в театре, только это был не театр. Вскоре в воздухе появились наши вертолеты. Они стали поливать джунгли огнем. Подоспели самолеты: было видно, как они маневрируют, готовясь сбросить бомбы. Вот бомбы упали, и джунгли сразу утонули в огне. А мы на своей террасе каждый раз, когда взрывалась ракета, вскакивали со стульев и кричали “ура!”. В тот вечер мы быстро перешли с пива на виски...
Когда мы уходили в джунгли, в горы, мы брали с собой воды столько, сколько могли унести. Чем выше и дальше мы забирались, тем труднее было дышать. У нас всех были противомоскитные сетки, закрывающие лица, но мошкара донимала нас. Как и все, я нес свою винтовку “М-16”. Это был ранний вариант, не очень надежный, а в джунглях влага и жара быстро приводили ее в негодность. На привалах мы только и делали, что чистили и смазывали наше оружие. Нам нужно было очень много этой смазки. И много носков, которые мы не успевали менять, потому что ноги все время были в воде.
Когда вспоминаю джунгли, вижу себя, с отвращением разглядывающего содержимое своего сухого пайка. Моя мама испортила меня: она прекрасно готовила. Я вырос на хорошей домашней еде, поэтому солдатский рацион воспринимал как кошмар моей жизни. Нам полагалось по четыре коробки “рациона” на человека. Там было и мясо, и галеты, и сухие пирожные — но меня воротило от такой еды. И я восстал. Отказался есть. Единственное, что мне нравилось в “рационе”, — ананасные дольки. Я постоянно менял их — на другие части пайка, на сигареты... Так продолжалось несколько дней и плохо кончилось. Мы пересекали вброд какую-то речушку, и я вдруг почувствовал, что теряю сознание. Диагноз оказался предсказуем: недоедание. Пришлось привыкать к “рационам”...
В джунглях мы носили специальные ботинки — наполовину из кожи, наполовину из холста. Хорошие ботинки: подошва кожаная, с металлической пластиной. А выше подошвы — холст. Он быстро намокал, но, когда мы выбирались из грязи и болот, эта холщовая основа так же быстро и высыхала. Стальная пластина в подошве спасала от отравленных колючек, которые партизаны рассыпали на лесных тропах. От мин она, конечно, не спасала: несчастного разносило в клочья. Тогда уцелевшие искали его ботинки. Там, за шнурками, мы прятали наши опознавательные жетоны. Все их называли почему-то “дог тэгз”, или “собачьими жетонами”. По жетонам определяли личность погибшего. Их полагалось носить на шее, но в джунглях они звенели, выдавая наше присутствие врагу. Поэтому все их снимали и запихивали под шнурки. На мине солдат погибал, но ботинки со стальной пластиной выживали. И мы выковыривали из них эти “собачьи жетоны”.
К чему нельзя было привыкнуть — так это к постоянному присутствию смерти. Это была партизанская война: они устраивали засады на нас, мы — на них. Их снайперы били на звук в темноте, на огонь сигареты. Мне почему-то смешно вспоминать, хотя это совсем не смешно, как мы курили. Забившись на дно окопа, лицом вниз, скрючившись — горящая сигарета в кулаке, поднесенном ко рту. Идешь по позиции — и вдруг натыкаешься на такую свернувшуюся кренделем фигуру. И еще, и еще...
Нас часто обстреливали, ракетами или из минометов. Как всегда — внезапно. Кажется, каждая мина или ракета нацелена в тебя. Мне в такие минуты хотелось спрятаться в собственной каске. Просто взять ее обеими руками за края и натянуть на себя до пят.
В джунглях мы сходились в бою так близко, что было слышно, как вьетнамские командиры отдают приказы. Бывало, удавалось захватить пленных. Чаще сдавались южновьетнамцы. Они были хуже вооружены, хуже экипированы и воевали не так рьяно, как северные. Но и те и другие, когда попадали в плен, ждали, что их немедленно расстреляют или подвергнут пыткам.
У нас, однако, была программа по содержанию военнопленных. Вьетнамцы называли ее “чу хой”. И когда вьетконговцы хотели сдаться, они кричали нам из джунглей: “Чу хой!”
Я помню такого первого пленного, которого взяло наше подразделение. Он был очень испуган и ждал немедленной казни. А когда ничего такого не случилось, я видел, как его отпустило.
С нами по соседству однажды расположилось подразделение южнокорейских солдат, наших союзников. Ими командовал капитан. Наш командир роты предоставил ему джип, а меня посадил за руль. Корейский капитан был хорошо образован, знал английский, мы разговорились. Меня поразила его философия. “Моя теория — не брать пленных. И я учу этому своих солдат”, — говорил он.
Я, бруклинский идеалист, возражал: “Пленные — это хорошо, ведь чем больше вьетконговцев сдается в плен, тем меньше солдат гибнет с обеих сторон”.
Но у капитана было что-то вроде предвидения — казалось, он знал, чем кончится война: “Вы, американцы, рано или поздно уйдете отсюда. А мы здесь останемся по соседству с коммунистами. И рано или поздно нам придется сражаться с вашими пленными, они снова будут стрелять, но не в вас, а в нас”.
К счастью, его слова не оправдались: вьетнамская война закончилась, а новая, корейская, не началась. Я, как и большинство наших парней, кто попадал во Вьетнам, пробыл там год и свое отвоевал. Пришло время возвращаться домой.
Меня раздирали при этом противоречивые чувства. Я был страшно рад, что возвращаюсь. И я страшно боялся, что меня убьют до того, как я сяду в самолет. Эта мысль, как паранойя, преследовала меня. Накануне отлета наша база в Дананге подверглась ракетному обстрелу. Мы провели ночь в бункере. Я забился в самый глухой его угол. Мне вдруг стало плохо. Что-то случилось с ногами. Но я боялся обратиться к врачу из страха, что пропущу свой самолет и останусь во Вьетнаме еще на месяц. И тогда меня точно убьют.
Но я улетел по графику. Отбыл, обуреваемый противоречивыми чувствами. Это была смесь радости и горечи. Я чувствовал, что война для нас кончится неблагоприятно, а значит, тысячи солдатских жизней потрачены зря, ни на что. Но я был очень счастлив, что могу улететь.
Я отправился из Дананга в Окинаву, за своей персональной коробкой, которая ждала меня целый год. И как тогда — никаких разговоров на борту, полет в полной тишине, каждый — в собственных мыслях...
На Окинаве пошел на уже знакомый мне склад. Дежурный солдат, который отправился искать коробку с моими вещами, не спешил, а я, наоборот, очень торопился. Он все рылся где-то на верхних стеллажах, пока мне это не надоело, и я поднялся к нему, чтобы помочь. Я искал коробку со своим именем, раздвигая другие, и заметил, что на многих стоит штамп “K-I-A”. Эти буквы — “кей-ай-эй” — означали: “погиб в бою”. Их было так много, этих коробок... А я все рылся среди них, пока не добрался наконец до своей. Это худшее воспоминание в моей жизни.
— Я тогда решил для себя, что должен постараться забыть все, — завершил свою историю Джон. — Потому что, если бы я стал рассказывать подробности, никто бы не поверил в то, что я видел. Я понимал, что должен найти место в своем мозгу и оставить это там. Так я и сделал. Я даже не привез с собой никаких “сувениров”, хотя мой товарищ, тоже из Бруклина, взял, например, трофейный советский карабин СКС. Я прихватил только медаптечку и какие-то военные нашивки — безделушки, в общем. Но все это выбросил, как только прилетел в Нью-Йорк.
Посол Вьетнама в России НГУЕН ВАН НГАНЬ: “Свою семью я увидел только через 21 год”
— Что вам запомнилось из военных лет больше всего?
— Я не имел возможности непосредственно принимать участие в войне. Сорок лет назад я учился в Москве, в МГИМО. Но летом 1964 года я вернулся во Вьетнам. Это было как раз в августе, сразу после Тонкинского инцидента. Эти события вызвали общее возмущение всех вьетнамцев. Во время войны американцы бомбили наши города — весь Северный Вьетнам. Очень много бомб было сброшено на Ханой.
Я вспоминаю 18 декабря 1972 года: за несколько дней до Рождества американцы нанесли бомбовый удар по центру нашей столицы. Бомбили главную ханойскую улицу Хам Тьен. Было 10 часов вечера, я сидел в своем офисе в МИДе. Надо сказать, что во время войны большинство мидовцев были эвакуированы в горные районы в целях безопасности. Но часть все равно должна была оставаться в Ханое, чтобы поддерживать связь с внешним миром. Я был в их числе. Днем мы работали в обыкновенных офисных комнатах, а ночью спускались в подвал. Никто не уходил домой. В тот день мы еще не заснули, когда началась бомбежка. Бомбы падали в 300 метрах от нашего здания. Несколько бомб взорвалось в ста метрах от министерства. И все это время я находился в МИДе. Конечно, было страшно. Мне это не очень приятно вспоминать.
— После объединения Вьетнама многие вьетнамцы покинули страну. Возвращаются ли они? В объединенной Германии между западными и восточными немцами есть трения. А как складываются отношения между южанами и северянами у вас?
— Действительно, в то время, когда война подходила к концу, а также сразу после войны многие вьетнамцы уехали из страны — из-за боязни попасть в кровопролитные разборки и по экономическим причинам. Но никаких кровавых разборок не было, и экономика постепенно восстановилась. Жизненный уровень народа растет. Сейчас сотни тысяч вьетнамцев, живущих за рубежом, приезжают во Вьетнам. Многие из них инвестируют средства в экономические проекты на Родине.
Сравнивать Вьетнам и Германию было бы не совсем точно. У нас нет таких различий, как в Германии. Во время войны против французских колонизаторов и американской агрессии и северяне, и южане вместе воевали, руководствуясь одними чувствами. К тому же почти в каждой южновьетнамской семье хоть кто-нибудь жил на севере. Я сам из Южного Вьетнама, из города Хюэ — древней столицы страны. Но после Женевских соглашений я переехал в 1954 году на север. И только в 1976 году смог вернуться к своим родным (хотя юг был освобожден в 1975-м, я в это время работал на Кубе). Лишь спустя 21 год я вновь увидел своего брата, сестер. Мы все плакали от радости. Жаль, что родители мои не дожили до этой встречи...
— После войны прошло много времени. Какие сейчас отношения между Вьетнамом и Америкой?
— Надо различать американский народ и американскую власть (особенно тогдашнюю). Народ США не желал агрессивной войны против Вьетнама. Исходя из этого мы строим отношения с Америкой. Через 20 лет после войны Вьетнам и США установили дипотношения. Не так давно было подписано торговое соглашение. В прошлом году США заняли первое место в товарообороте Вьетнама ($5,8 млрд.), опередив Японию. К сожалению, с Россией у нас товарооборот находится не на очень высоком уровне (максимум был в 2002 г. — около $700 млн.).
— В прессе говорилось, что после того, как Россия закрыла свою базу в Камрани, туда сразу же нацелились американцы...
— В СМИ много чего писали на эту тему. Когда я был еще во Вьетнаме, мне в качестве заместителя министра иностранных дел часто приходилось отвечать корреспондентам на такие вопросы — особенно когда в Ханой приезжала какая-нибудь делегация из США. Тут же все начинали писать: мол, идут переговоры насчет Камрани. Если бы Россия в 2002 году не ушла оттуда, все равно в 2004 г. срок действия соглашения о Камрани должен был прекратиться. Не было и не будет речи о том, что Вьетнам и США ведут переговоры об использовании Камрани в военных целях.