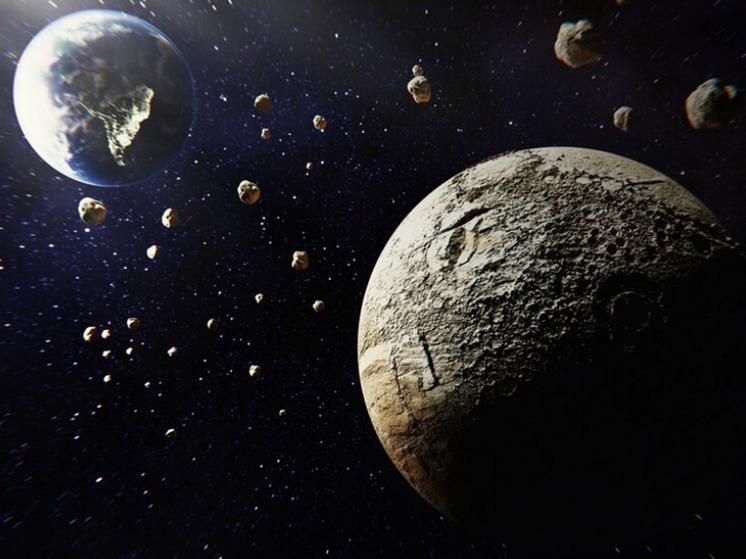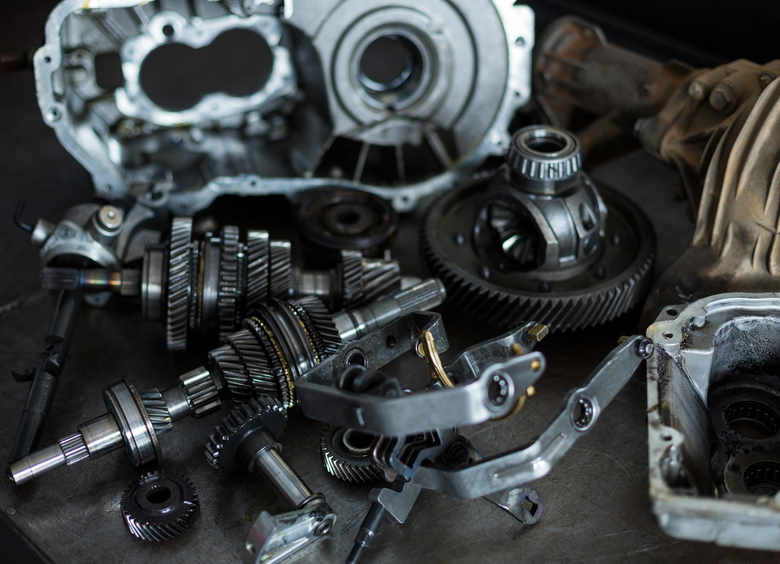Сталинские лагеря — сотни “объектов” по всей стране, сотни тысяч “серых бушлатов” за колючей проволокой… Их жизнь в неволе складывалась по-разному. Кому-то доставался легчайший из кругов лагерного ада — работа в “шарашке”, большинство тянули жилы “на общих” в строительных зонах, кого-то ждала преисподняя — каторжные лагеря… Но был и еще один, куда менее известный лагерный вариант. Не такая вольная жизнь, как в “шарашке”, но и с “общими” не сравнить: работа в театре заключенных.
Кое-кто из всесильных начальников организовывал у себя в лагерях “крепостные труппы” — для развлечения, для престижа. В числе самых замечательных “зэковских” арт-коллективов — театр, созданный в Северном управлении лагерей железнодорожного строительства (СУЛЖДС). Корреспондент “МК” встретился с его участниками.
— “На зону” я угодил еще в 1945-м, по 58-й статье. А пару лет спустя меня перевели в воркутинские лагеря, в поселок Абезь, — вспоминал театровед Алексей Моров. — Там встретил старого знакомого — Леонида Оболенского, который работал в клубе. Мы получили “аудиенцию” у местного начальства — полковника Барабанова и предложили организовать настоящий лагерный театр…
Василий Барабанов был страстным театралом, так что идея попала в десятку. Но как ее оформить юридически? Выход нашелся простой: работа театрального коллектива должна стать одним из важных элементов культурно-воспитательной работы. По нормам ГУЛАГа на каждого зэка полагалось расходовать 1,5 копейки в день “на культурные нужды”. Если умножить столь мизерную сумму на тысячи обитателей лагерей, да еще увеличить в 365 раз (по числу дней в году) — получится вполне весомый капитал. Его-то и решил Барабанов своей властью израсходовать на театральный коллектив.
— Он лично подписал мне “открытый лист” — бумагу, разрешающую свободное, без конвоира, передвижение в пределах зоны лагерей и дающую право отбирать среди контингента нужных людей, — рассказывал Моров. — С таким “мандатом” я и отправился по всем колониям искать артистов, музыкантов, художников…
Вор на сцене
В “Барабановском театре” насчитывалось более 200 человек: драматическая и опереточная труппы, симфонический оркестр, джаз. Народ в “артистической” бригаде собрался разный. Почти все угодили в неволю по “политическим” статьям, единственным уголовником был вор в законе Борис Вершковский, у которого обнаружился недюжинный актерский талант.
— Боря поначалу никак не мог расстаться с блатными привычками. Например, запросто посылал по матушке, когда звали на репетицию, а он был не в настроении. Даже грозил “поставить на перо” беспокоящих его “фраеров”. Да и на сцене порой чересчур увлекался, входя в роль. Мы однажды ставили отрывок из “Горя от ума”. Так наш Борис, игравший Чацкого, в запале виртуозно обложил Фамусова пятиэтажным матом!
Сам Алексей Моров стал заведующим художественной и постановочной частью. А режиссировать постановки доверили другому “отцу-основателю” театра — Леониду Оболенскому.
— Он происходил из княжеского рода, считался одним из зачинателей советского кинематографа, дружил с Эйзенштейном, — вспоминала участница “барабановской театральной эпопеи” Зоя Марченко. — В свое время вынужден был эмигрировать, но не выдержал разлуки с родиной и решил вернуться в Союз. Прекрасно понимая, что в большевистской России его может ждать лагерный срок, Леонид Леонидович специально целый год перед возвращением жил в монастыре, приучая себя к суровым лишениям…
“…Первая наша встреча с полковником Барабановым была в Абези, когда он предложил мне поставить в ДК строительства какую-нибудь оперетту, — рассказывал Оболенский в письме автору этих строк. — Я возразил тогда, что этот жанр мне не мил. “Ну а если через не могу, чтобы хоть немножко был праздник и нам, и вам всем, сможете?” Отвечаю, что не специалист. Он спросил, может ли кто-либо из коллег в Москве помочь? Я назвал Эйзенштейна. “Хорошо. Но не пишите ему прямо. У вас супруга артистка, вот через нее…” Так получил я там, в лагере, от Эйзенштейна великолепный режиссерский план постановки оперетты — озорной и эксцентричный!..”
В лагерной оперетте пела Дора Петрова, бывшая когда-то солисткой императорского театра в Петербурге. А балетмейстером взяли Федора Редина, который на воле занимался с балетной труппой Большого театра, а потом угодил на зону. Как утверждала лагерная молва, за гомосексуализм. В драматической труппе работали “радловцы”. В 1942 году Театр Ленсовета во главе с Эрнестом Радловым эвакуировали на Северный Кавказ. Там артисты попали в плен, их вывезли в Германию и заставили выступать в лагерях перед русскими переселенцами. За это после победы “радловцы” оказались в ГУЛАГе. Среди музыкантов был пианист Всеволод Топилин — первый аккомпаниатор знаменитого скрипача Ойстраха (лагерным сроком ему аукнулось пребывание в немецком плену). Даже в течение тех четырех лет неволи, пока не попал в театр, Топилин упорно репетировал — без инструмента: на нарисованной клавиатуре разучивал концерты по нотам, которые Ойстрах присылал ему в зону.
Примечательный оркестрант — Сенте Ласко, бывший сенатор в хортистской Венгрии. В свое время он освоил игру на виолончели, и в ГУЛАГе это хобби весьма пригодилось опальному политику. Еще один “непрофильный” артист — певец Дмитрий Крайнов: этого доктора наук природа наградила прекрасным басом. В 1941-м во время археологических раскопок в Новгороде он угодил в лапы к немцам, сбежал, но получил от наших органов 10 лет “за измену родине”.
Симфонический оркестр возглавил бывший дирижер одесского театра Николай Чернятинский. Во время оккупации он оставался в городе и даже ставил там оперные спектакли, желая показать немцам силу русского искусства. Неизвестно, пострадал ли воинственный дух арийцев от этой затеи, но вот сотрудникам НКВД, появившимся в Одессе после изгнания гитлеровцев, она категорически не понравилась. Чернятинского отправили “хлебать лагерную баланду”. А эстрадными музыкантами руководил известный в Советском Союзе джазмен Зиновий Бинкин. Еще до войны он попал “в гости к Лаврентию Палычу”, несколько лет руководил Московским областным арестантским ансамблем, который располагался в одной из “ближних” зон — в Бескудникове. Однако в 1948-м Берия распорядился всю “контру”, осужденную по 58-й, из Подмосковья убрать. Так Бинкин и его музыканты оказались на севере.
Среди подневольных артистов гулаговского театра была одна “декабристка” — Ванда Савнор. Она успешно работала в Москве, была солисткой Музыкального театра Немировича-Данченко. Весной 1949 года арестовали ее мужа-инженера. Ванда Антоновна, узнав, что он увезен на строительство железной дороги на севере Сибири, без колебаний отправилась к мужу в заполярную Игарку, прихватив с собой маленького сынишку. В “столице зэков” приезжую певицу сразу же позвали принять участие в работе театральной труппы.
“Театру зэков” помогали и корифеи советской сцены, правда, заочно. Дело в том, что для “барабановцев” удалось “пробить” покупку необходимого оборудования и реквизита аж из Большого театра, где в то время проводили их замену. В результате из главного театра страны прислали осветительные приборы и несколько ящиков со сценическими костюмами. На некоторых из них сохранились нашивки с именами прежних владельцев: “Лемешев”, “Козловский”…
Коварный стрептоцид
Сначала театр работал в Абези. Позднее, когда Барабанова назначили руководить строительством приполярной железнодорожной магистрали от Урала до Енисея, он и здесь наладил концертную деятельность. Бригады артистов были переведены в городок Салехард, в Игарку, в поселок Ермаково.
“Театралы” работали не только перед вольной публикой, но и перед заключенными. Время от времени они грузились в специально выделенные “агитвагоны” и ехали на гастроли по лагпунктам. Выступали обычно в больших бараках-столовых. Зэки посещали “культурное мероприятие” бесплатно — их бригадами приводили на концерт. А “вольняшки” и администрация лагеря должны были покупать билеты. Конвойные солдаты, сопровождавшие артистов на “гастролях”, тоже участвовали в выступлениях: по прибытии на очередную зону они, переодевшись в штатское из костюмерной, работали билетерами и даже статистами на сцене.
— Зимой 49-го дали нам две теплушки и отправили по колониям, строившим дорогу от Салехарда до Игарки. Конвоиры раздобыли где-то спирт и так перепились, что нам пришлось — от греха! — у них забрать автоматы и спрятать под замок в ящике с реквизитом, — вспоминал администратор лагерного театра Лазарь Шерешевский. — В другой раз, осенью, когда мы из Салехарда поехали выступать на другой берег Оби, в Лабытнанги, конвой возглавлял старшина Фаттахов. А один из артистов, Коля Немченко, после концерта решил сплавать на попутном катере к своей девушке в Салехард. Фаттахов кинулся вслед — думал, что зэк в побег ушел. Когда плыл на лодке через Обь, налетел такой страшный шквал, что старшина дал клятву Аллаху: если выберется живым на берег, не будет Колю наказывать.
Барабанов свои “творческие кадры” ценил. Их кормили овощами, мясом из подсобного хозяйства, которое обслуживало главных сотрудников Управления строительства. Дирижерам, режиссерам и певцам-солистам выдавали доппаек — молоко. Жили “театральные” в более благоустроенных бараках (а руководителям коллектива выделили там даже отдельные комнатушки). И распорядок дня был почти “богемный” — без обязательных команд “подъем” и “отбой”; разрешено не носить лагерную униформу, вместо нее по распоряжению Барабанова пошили настоящие костюмы. Нескольким ведущим актерам “за ударный труд” приказом начальника был даже сокращен срок заключения на 8 месяцев.
Однако льготы не давали гарантий спокойной жизни. Подводные камни подстерегали “заключенных творческого труда” повсюду. Скажем, репетировали однажды фрагменты пьесы Островского “Без вины виноватые”, а какой-то бдительный товарищ усмотрел вдруг в названии спектакля крамольный намек. К счастью, в тот раз обошлось без ссылки руководителей театра на общие работы.
В другой раз один из художников, прикрепленных к театральной бригаде, получил от начальника лагеря сверхурочное задание: нарисовать портрет Сталина для оформления столовой. На зоне тогда ощущался дефицит красок, а потому “подневольный Репин” развел в воде таблетки стрептоцида и использовал получившуюся красновато-бурую массу вместо акварели. Портрет вышел на славу. Но через день его пришлось срочно прятать. Стрептоцидовый раствор вдруг в нескольких местах поменял свой оттенок, в результате чего на шевелюре вождя проступили посторонние штрихи, которые сложились в подобие букв, образовавших короткое нецензурное слово... Уже через час после такого ЧП бедолага-живописец сидел в карцере.
— Случались в нашем театрально-концертном кругу и трагедии, — рассказывал Лазарь Шерешевский. — У одной из артисток, Нади Скоблы, был роман с кем-то из “вольняшек”, в результате молодая женщина забеременела и, чтобы не накликать на себя и своего возлюбленного лишних неприятностей, попыталась самостоятельно сделать аборт. В итоге с сильным кровотечением угодила в больницу. Многие пришли тогда сдать для нее кровь, но не помогло — Надя умерла. А художник-декоратор Дима Зеленков покончил с собой. Этот талантливый мастер происходил из знаменитой семьи Лансере. Он работал в Кировском театре, на финской войне попал в плен, а по возвращении оттуда угодил в сталинские лагеря. Периодически его одолевали приступы отчаяния: “Все, отсюда уже не выбраться! Жизнь кончена!”. Первая попытка “уйти” случилась прямо во время концерта, за кулисами, но его успели спасти. А еще через несколько дней вдруг в репетиционную комнату врывается кто-то из наших: “Зеленков только что повесился в уборной на улице!”
Актрисы и певицы “крепостного театра” вызывали повышенный интерес гулаговского начальства и даже простых охранников. Такое внимание для некоторых кончалось “принудиловкой”: они становились офицерскими любовницами. А гордячки, которые отвергали домогательства всемогущих людей в погонах, рисковали быть отправленными из театра на общие работы или даже вовсе лишиться жизни. Вот что вспоминает Валентина Иевлева: “Однажды вохровец, который меня конвоировал, решил инсценировать мою попытку к бегству. Скомандовал: “Сходи с насыпи! Иди к лесу!” Я пошла и слышу — выстрел сзади, пуля над головой просвистела… Потом — щелк! — осечка. Щелк! — осечка… Охранник понял, что план его не заладился, и велел мне возвращаться назад”.
* * *
Лагерный театр просуществовал в СУЛЖДС несколько лет. Проблемы начались с приходом нового начальника политотдела Штанько, который к артистам относился с враждебностью.
“На премьере спектакля “Особняк в переулке” присутствовал вновь назначенный начальник политотдела Штанько, — писал один из участников труппы, Ю.Аскаров, — он запретил хлопать “врагам народа”. Все актеры были в шоке… Заканчивается первый акт, зал какую-то долю минуты молчит, среди актеров страшное напряжение. И вдруг обвал! В зале неистовствовали, таких аплодисментов у нас еще не было… Оказалось, сидящий в первом ряду В.А.Барабанов, подняв руки над головой, аплодировал, разрядив в зале обстановку”.
После того как со строительства был отозван на другую работу полковник Василий Барабанов, судьба артистической братии оказалась под угрозой. В 1952 году опереточную труппу и симфонический оркестр распустили. Часть заключенных из их состава отправили работать в обычные лагерные бригады, а кое-кого перевели на Тайшетлаг, в страшные строгорежимные лагеря. Лишь немногим повезло “зацепиться” за должности руководителей кружков самодеятельности в домах культуры.
…С тех пор прошло более полувека. Приполярная “сталинская дорога” от Оби до Енисея так и не была достроена, и ныне остатки ее гниют среди безлюдной лесотундры. А старожилы Игарки, Салехарда даже сейчас с восторгом вспоминают, какие замечательные концерты и спектакли устраивали здесь театральные бригады, собранные из подневольных покорителей Севера.