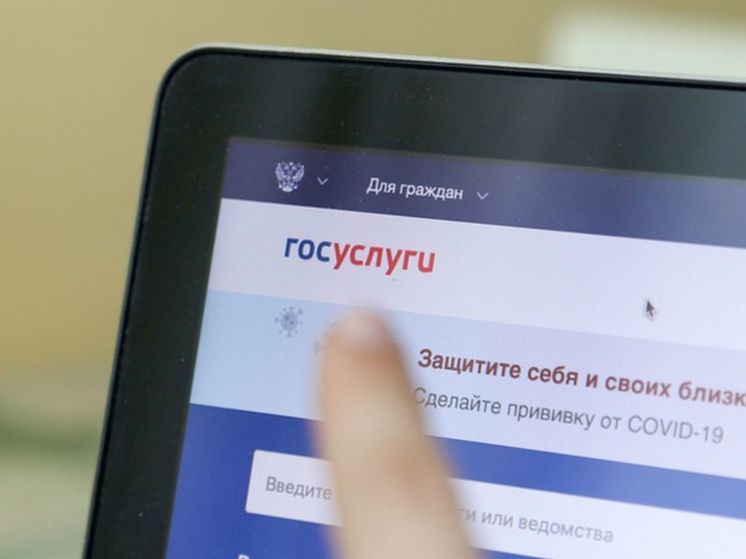Таня Гринденко: виртуозная скрипка, невыразимая женственность, кагэбэшные слежки, автокатастрофы, протест и Откровение… Ее чувствуешь нутром. А это уже много. Сегодня, когда все повязло в дву- и тресмысленности, когда даже талант подменился компромиссом, так здорово примоститься вместе с нею где-то под лестницей в полутемном закутке любимовской Таганки и в кои-то веки услышать живую человеческую речь. Без оглядки на “хозяев”, “авторитетов” и закулисные шуры-муры. Без этих дурацких оговорок — “нет-нет, об этом лучше не писать!”. Никого и ничего не боится. Ни под кем не прогибается. Ни один расхожий ярлык к ней не пристанет: самодостаточна, самоценна, жила как хотела, плевав на остракизмы прежней жизни и болотную муть жизни настоящей.
Диктатор? Не хочешь, но станешь
— Татьяна, твердость характера — в отца? Он же вроде офицер Советской армии?— Твердость — в маму. Отец как раз был очень мягким. Мама — врач-патологоанатом; потом, правда, ради своих детей переквалифицировалась в детского врача, работая в клиниках и в реанимации. Мама со своим братом — дети расстрелянной купеческой семьи, росли в детдомах, выжили благодаря невероятному внутреннему стержню. Сами получили по три высших образования, подделывая, чтоб приняли, себе паспорта: старили себя лет на пять. А вообще, мама — фанатичный спасатель. Помню, она летом подрабатывала в пионерских лагерях. Так спать ложилась прямо в платье: уставала безумно, засыпала мертвецким сном, но если кто-то среди ночи постучит в окно — сразу встает и бежит, не теряя ни секунды на сборы. Абсолютная жертвенность!
— Что ж, польстим “женской доле”: вот вы тоже всю жизнь — не просто музыкант, но организатор, руководитель и… это приставучее к вам — диктатор…
— Знаете, за счет чего выжила Православная церковь в советские годы? На протяжении десятилетий женщины — бабушки — несли туда свои копеечки. Одну, две, три… Бабушкиными пятачками церковь и сохранилась. Но все же… вы говорите — “руководитель”. А это не от хорошей жизни. Я про себя думаю: “Господи, вот если бы не рассуждать, а просто делать, что тебе говорят…” Но, к сожалению, как раз приходится быть таким человеком, который просит, приказывает, принуждает… А когда со мной кто-то затевает споры, я говорю: “Знаете, именно я отвечаю за результат. И будет так, как я сказала!” И вот это “я отвечаю” — не очень хочется, честно говоря.
— А “под руководителем” быть не получалось? Авторитета не было?
— Оказаться инструментом в руках другого — великое счастье. И у меня такие примеры были: Геннадий Рождественский, Хайнц Холлигер, Курт Зандерлинг. С Куртом мы должны были играть не самый великий на свете концерт — 1-й Шимановского. Он спросил: “Как вы себе представляете эту музыку?” — “Это экстаз, это начало любви!” — “Детка, а для меня это закат…” — “И что же нам делать?” — “А мы сделаем два варианта!” И тут же обращается к оркестру: “Господа, сегодня мы играем экстаз, а завтра закат!”
— А с Юрием Любимовым вам просто (Танин оркестр OPUS POSTH принимает участие в спектаклях театра на Таганке. — Я.С.)? А то — чуть не сказал — он тоже диктатор?
— И у меня, и у моего мужа композитора Мартынова Любимов — слабое место, мы его обожаем! Но мне жаль, что актеры театра, особенно молодые, совершенно не понимают, с кем имеют дело. Потому что он мог бы делать гораздо больше, если бы они ему не мешали. А ему не хочется с ними бороться, надоело.
— Иные приводят такой аргумент: он растерял звезд. Вон, в “Ленкоме” — Янковский, Збруев, Броневой, ля-ля-ля, а на Таганке — один Юрий Петрович, и все.
— А я не думаю, что хорош тот театр, где одни звезды. Это для меня вообще не критерий. Походила по разным театрам: мне скучно! “Диктаторство” Юрия Петровича для меня — благо. Да в конце концов — кто такой диктатор в искусстве? Человек, который четко держится своей линии, и настолько мощно, что начинает всех притягивать как магнит. Да кого ни назовите в искусстве — все кругом диктаторы…
— Ну… сейчас уж пошло время компромисса, “непоймичевойки” вокруг.
— Вот вы хорошо связываете слово “компромисс” с выражением “не пойми кто”. Значит, на безрыбье рак — это рыба, да? Да вот в том-то все и дело, что на безрыбье рак все равно не рыба. Вот здесь — волей-неволей — и становишься диктатором…
— Раз-другой наблюдал, как вы репетировали с Opus Posth. Строго, жестко, даже припомнилась фраза: “Сейчас на деньги тебя поставлю!”
— Нет, я едва ли могла такую фразу сказать. А насчет строгости… Говорят — со мною непросто работать. Но мы же, приходя на рынок, не покупаем гнилые яблоки. Хотя продавец будет лить слезы: “Я столько труда потратил, я их привез…” Но это его проблемы. И они не должны нас касаться. Почему ж мы — музыканты — должны делать гнилой товар, да еще требуя, чтобы за него платили деньги? В моем ансамбле не получают деньги за то, что просто существуют.
— Вот вы говорите с точки зрения собственной самооценки, а в прессе о вас зачастую очень лестные отзывы…
— Хотите честно? Мне, конечно, приятно, когда нас хвалят. Но вот скажут мне: “Таня, в этой статье так хорошо все написано” — и никогда это не прочту, неинтересно. Но когда нас ругают, прочту обязательно, потому что всегда есть какое-то “зерно”, недочет, который сам упустил.
130? Да вы смеетесь!
— Правда, что вы, занимаясь автоспортом, могли мгновенно проехать стоящее в пробке Садовое кольцо?— Я люблю учиться. Особенно у сильных людей. Как на Востоке говорили, что найти хорошего учителя — сверхсложная задача, а найти ученика почти невозможно…
— Вы — хороший ученик?
— Надеюсь, да. Он был гораздо младше меня. И поставил мне мозги фундаментально. Зовут его Михаил Девекин, известный тренер. Но дело тут не в автоспорте. Он был учителем жизни. Занимайся он плетением ковриков — я бы училась плести коврики. Михаил был далек от мира искусства, а я искала именно такого человека...
— Почему?
— А потому. Мы живем с вами в мире вкуса. Вот ответьте мне на вопрос: “Как играет известный скрипач — назовем его — Вася Петькин?” Я скажу: “Гениально!” А вы?
— Допустим, “мне не нравится”.
— Вот. И мы никогда не договоримся. Что хочу — то и считаю. Это ужасно! Человек теряет всякие ориентиры. А когда занимаешься автоспортом, такая система ценностей, как “вам что-то там кажется”, не пройдет: в лучшем случае результатом будет реанимация, в худшем — кладбище. Вот у меня есть один музыкант, ему говоришь: “Это место ты сыграл плохо и фальшиво!” А он отвечает: “А я так не считаю!” А в машине… Тебе что-то показалось? Ты с чем-то не согласен? Нет вопросов! Ты просто сию же секунду своим раскуроченным авто обнимаешься с деревом. Чтобы оставаться здоровым человеком, надо искать возможность править себе мозги. Не можешь сам — ищи того, кто поправит.
— По Москве тренировались ночью?
— Да, пока дороги пустые. Но были задания и днем — по всем рядам проезжать Садовое кольцо и прочее… У нас это называлось “От “Пекина” до “Пекина”: стартовали-то на Маяковке. Помню смешной случай. Иномарок тогда было еще мало. А я — за рулем жигулевской “шестерки”…
— Но, конечно, заряженной?
— Конечно. Но внешне-то ничем не отличалась. Вот и бодались, помню, с одним “Ягуаром”. Тот не смог обогнать, изумленно съехал в сторону… Мне Миша говорит: “Вот можете себе представить: сейчас он заедет в свой сервис и скажет: “Ребят, у меня, наверное, мотор испортился!” Какая-то занюханная “шестерка” обгоняет “Ягуар”! Мыслимо ли вообще?
— 130 ехали?
— Да вы смеетесь. Такие цифры — вообще не разговор. Там, как Миша говорил, “все лежало направо” — все стрелки падали вправо, выжимали до максимума. От 150...
— Но это, так сказать, приятные моменты. А была б, не дай бог, авария…
— Да как раз на авариях я и научилась главному! Это было замечательное время! От машины остались лишь четыре колеса. А было так. Я по взлетной полосе Ходынского поля (которая нынче, к сожалению, застроена) делала заносы. Потрясающая картина: много снега, я иду в заносы на 140… И тут машину поднимает, и она начинает крутиться, как бочка, — знаете, как в кино показывают?
— Вы — в шлеме?
— Никаких шлемов. Один свитер. Даже не пристегнута была, что меня, собственно, и спасло. Потому что в момент переворота я закатилась за заднее сиденье, а крышу сплющило до уровня сидений, и я, конечно, была бы мертва, если б осталась на водительском месте. А машина и в сплющенном виде все катилась и катилась… Когда пришла в себя, подумала, что сломан позвоночник: не могла пошевелиться. Помню, нашла какую-то щель, через которую я попросила свое тело выползти. Тело выползло. Снег. Шок. Подбежал охранник аэродрома, вынес какой-то железный стул, я села. Говорю ему: “Я, кажется, вся переломана, только не понимаю, где…” Повезли в Склифосовского. По счастью, переломаны оказались только ребра. С позвоночником вроде ничего. И я была счастлива. Я поняла то, ради чего столько лет этим занималась.
— Польза?
— Колоссальная. Какая — не расскажешь. Каждый должен пройти собственный путь. Хотели оставить в Склифе, но я отказалась. Предупредили, что будут бешеные боли, потому что при реберных переломах никаких гипсов не накладывают… Надо просто лежать на деревяшке. И… запастись анальгином. Дали мне первые таблетки обезболивающего, и так, в 4 часа утра, я доехала домой (выйдя оттуда накануне в семь вечера, сказав “через часик буду”). Вхожу окровавленная, меня ведь даже не вытерли. Открывает муж. Я ему: “Знаешь, у нас теперь нет машины”. А он: “Так тебе и надо”.
— Любя?
— Ну естественно. А у меня — эйфория. Что я своего добилась, достигла и поняла. И все это время, пока я лежала, у меня были мучительные боли, но я их уже не замечала.
— Значит, на дороге нет места двусмысленности, которой вы так боитесь?
— Была одна двусмысленная ситуация. Авария. Семь часов утра, воскресенье. Я на “Волге” мчусь через перекресток. И мне в заднюю часть врезается “Москвичок”-дачник. Он меня просто не увидел. Повредил мне мощно машину, да и свою разбил. Я — вся окровавленная… Должен был быть суд. Но я иду к Мише Девекину: “Миш, что делать?” — “Расскажите, как все было”. Я рассказала. Он: “Что говорит страховая? ГАИ?” — “Что он мне должен выплатить столько-то денег. По правилам виноват он”. — “Ну и зачем же вы пришли ко мне?” — “Есть что-то, что мне мешает”. — “Правильно. Потому что на самом деле виноваты вы”. — “И я это чувствую. Я вполне могла бы притормозить, но была уверена, что в 7 утра в воскресенье здесь никто не поедет. Рыльце в пушку”. — “Знаете что, для чистоты совести не берите с него денег и заплатите ему за ремонт”. Я так и сделала. И считаю, что с Мишиной стороны это был поступок учителя. За который я ему страшно благодарна, хотя для меня тогда было очень напряженно в смысле денег.
— “Дачник” удивился?
— Был безмерно счастлив.
Веселье конспирации
— У вас есть причины негодовать о советском времени. Вас за своенравность запрещали, концертов не давали…— Да перестаньте! Время было роскошное! Тогда было официально “все нельзя”, но именно поэтому я все и делала. Да, были строжайшие запреты на мою деятельность в различных республиках и, разумеется, в Москве. Ко мне был приставлен личный куратор в ЦК партии; бесконечно вызывали, беседовали, даже арестовывали. Мне говорили: “Ты невыездная совершенно наглухо, на всю жизнь!” А за что? Мне объясняли, что я, дескать, “сама знаю, за что”. Тогда я решила, что у коммунистов есть машинка, читающая мысли. Потому что по мыслям было за что. Запретов — масса, но мы… веселились! Единственное, мне было неловко, когда о нас начинал говорить “Голос Америки” (помните все эти “вражеские голоса”?).
— Говорить — как о “героях”?
— Вот-вот. Тут я понимала, что назавтра могут начаться крупные неприятности. Помню, люди знающие учили специфически закреплять дверь, чтоб потом было видно, если в наше отсутствие ее кто-то открывал…
— Что-то вроде волоска к дверному косяку?
— Ну да. Оставлю свет в прихожей — возвращаюсь, а он погашен. Значит, кто-то автоматически выключал, уходя. Или несколько раз документы исчезали… Такие вот тайные обыски. Дом, помню, был на Ходынской улице, там окна выходили на разные стороны. Вот двор. Я говорю мужу: “Смотри, сколько машин внизу стоит. Сейчас я уеду, и ни одной из них во дворе не останется!” Он: “Да перестань, это у тебя уже мания…” Хорошо. Проводим эксперимент. Я уезжаю — и все они за мной. Возвращаюсь — и они на прежних местах. Смех! Но со временем стала понимать, что с моей стороны это феноменальное легкомыслие. Когда, например, попадаю под подписку о невыезде, а наутро просто беру и уезжаю на гастроли в Грузию. А там гостиница — как раз напротив грузинского МВД. Ну, думаю, и здесь они могут за мною наблюдать…
— А за что под арест?
— Это после истории с Максимом Шостаковичем. Поехали вместе на гастроли, и он тогда попросил политического убежища в Западной Германии. Остальные музыканты вернулись. Ну в “органах” и посчитали, что раз я — солистка, значит, была посвящена в планы Максима и не донесла… Взяли прямо у трапа самолета в Москве. Долго допрашивали в аэропорту. Это ужасно неприятно: три человека вокруг вертятся, перед тобой магнитофон, начинают угрожать разными мерами…
— А не проще ли было… уехать?
— Я всегда считала, что это нечестно, когда у тебя в семье кто-то тяжело болен, а ты уезжаешь ради того, чтоб переждать, пока он или умрет, или выздоровеет, и только потом возвратиться… Да, карьерно я, наверное, потеряла. Денежно — безусловно: здесь жила в такой нищете, что это сложно себе представить. Но меня это не волновало.
— Хотя спустя несколько лет после “дела Шостаковича” последовал очередной арест?
— Мы тогда работали в церкви, и они взяли священника: все, как в кино, — ворвались в дом, руки за спину, серия допросов. Тут уж стало не по себе. Стало понятно, что могут осудить вообще ни за что, подкинуть любой наркотик… На перестройке все это, слава богу, кончилось. Но что важно: тогда без всяких возможностей и разрешений нам с Алексеем Любимовым удалось на голом месте создать ансамбль “Академия старинной музыки” (или Opus Posth — в зависимости от того, какую музыку играем). А сейчас я сомневаюсь, что это бы получилось. Бывает, ищу каких-то людей в ансамбль, ко мне приходят и спрашивают: “Сколько вы будете платить?” — “А вы умеете играть?” — “Так вы же научите!” — “А не хотите ли съездить за границу на мастер-классы, заплатить деньги, научиться, а потом приехать и играть?” Вот оно, наше гнилое сознание…
Хорек отгрыз кусочек, и ему достаточно…
— Часто говорят о завершении золотого века концертной истории…— Искусство в России сейчас — это гнилой товар. Я сама видела кадры хроники, как встречали Ойстраха в Японии: он с женой вышел на трап самолета, и к ним бросились толпы, как если бы это был Майкл Джексон! Девицы пытались разодрать пальто на куски! Ойстрах, Гилельс, Рихтер — это были настоящие поп-звезды. И они преподавали в консерватории. Студенты штурмом брали Большой зал на их концерты. А кто там преподает сейчас? Как это может быть, что человек, заканчивая консерваторию как третьесортный исполнитель, тут же становится там педагогом? Но тут, конечно, дело еще и в долгой коммунизации общества. Коммунизма теперь вроде нет, но он по-прежнему живет: каждый, кто оказался в каком-то месте маленьким начальником, понимает, что он здесь временно. И за это “временно” надо для себя, родного, как можно больше взять! И еще! И еще!
— А дальше — хоть трава не расти…
— Точно. И это жуткое сознание “временщиков” проросло и в музыку. Нет учителей. Нет учеников. Все хотят сделать свою маленькую карьерку. Такие вот хорьки у нас сейчас живут: отгрызли кусочек, и им достаточно. Чуть-чуть цапнул что-то, лежащее у своего носа, и понес в норку. Какие там цели, какая там музыка… Я вот очень надеюсь на нового ректора (Тиграна Алиханова). Если он сможет свою жизнь пожертвовать, то что-то изменится и наладится. Во времена Нейгауза такая жертвенность не требовалась, потому что само время дышало Музыкой. Это был первый сорт. А сейчас какой? Пятый? Шестой?
— Скажите, неужели скрипка до сих пор вам не надоела?
— Знаете, самая несчастная профессия среди музыкантов — арфисты: у них очень узкий коридор деятельности. Работа только в оркестре и с очень ограниченным репертуаром. У скрипачей пошире, но… прикол в том, что я себя не считаю скрипачкой. Совсем. Я одно время играла в рок-группе, и это спасло меня от “скрипизации”. Я использую свой опыт лишь как орудие профессионализма. Могу показать как надо. Поэтому я безумно рада, что, например, Спиваков не только чудесно играет на скрипке, но и возглавляет два оркестра, да еще и является президентом Дома музыки. Я рада, что Сережа Стадлер не только играет, но и организовал какой-то конкурс. Представьте, что было бы, если бы они до сих пор занимались только этим пиликаньем! Катастрофа.
— Вот как? А я в интервью с Мацуевым едва ль ему в упрек не поставил, что он “поплыл” во всякие организаторские штуки… Неужто добился потолка в карьере пианиста?
— Никакого потолка он не добился. Он просто адекватен своему времени. Золотой век исполнительства прошел. И не надо его возбуждать искусственно: все равно не получится. Мацуев приедет в любую страну, и там его встретят пять его любимых фанатов. Но никто никогда не будет визжать и рвать на нем одежду, как на Ойстрахе. И Мацуев это понимает, он умен. Вам-то, как “бытовому слушателю”, конечно, хотелось бы, чтоб “ваша любимая звезда Мацуев” весь был “только в мире музыки”, но это романтическая ерунда и ничего больше. Вот Венгеров — это как раз сладкий пупсик, который делает вид, что “очень любит музыку”. Он профессионал, тут ничего не скажешь. Но делать вид, что ты находишься в золотом веке, — это абсолютная неадекватность, непонимание, в чем ты живешь.