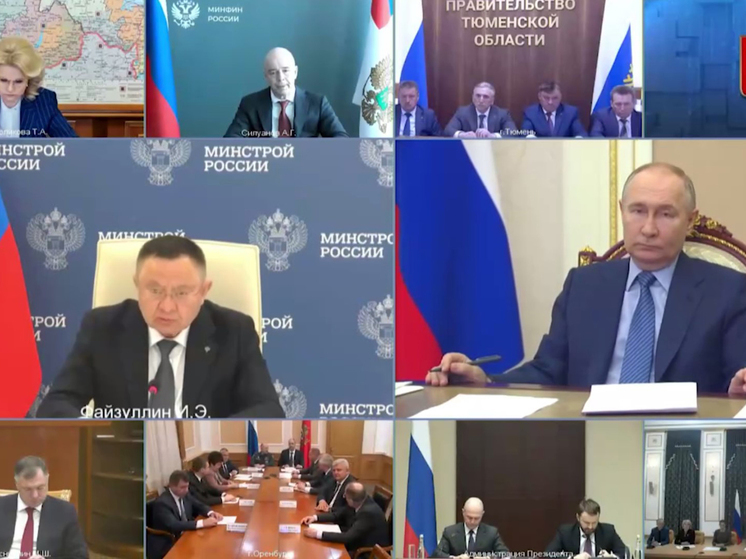Мир для них распался на две части. Над головами, вколачивая подошвы в асфальт железнодорожной платформы, спешит по делам сытая и довольная Москва. В семь утра шаркают к станку похмельные, а оттого злые работяги. В восемь, отчаянно цокая пластиковыми шпильками с Черкизовского рынка, бегут на лекции облакоподобные студентки. А под платформой, прямо под ногами у всего этого заспанного пассажиропотока, на пропахших потом и пловом байковых одеялах, в конурах два на три метра живут они — Салим и Назри, Мансур и Алик. Со своими семьями и детьми. Со своими проблемами и радостями.
Их адрес не дом и не улица. Их адрес — железнодорожный перрон прямо в центре столицы. Потолки им заменяют бетонные перекрытия полустанка, баню — вокзальный душ, а столовую — костерок под почерневшей от копоти и пыли привокзальной ивой. Жизнь под стук колес — для тридцати обитателей таджикского табора удары стотонного состава по шпалам уже давно заменили колыбельную, а отчаянный гудок локомотива — будильник.
Корреспондент “МК” провел один день в нелегальном таджикском поселении. Чтобы узнать, каково это — жить, когда у тебя в прямом смысле слова ходят по голове?
“Чтобы выжить”
— Слышишь гудок? — будто указку, Салим поднимает из огромного таза с пловом куриную ногу. — Поезд на наших путях остановился! Значит, шесть часов. Время намаза.
С этими словами Салим перекидывает через плечо коврик с арабской вязью, хватает в руки эмалированный чайник с черными проплешинами и на четвереньках, тюбетейкой задевая потолок-платформу, лезет во двор. Сначала через кучу накиданного в углу тряпья и игрушек — детскую. Потом мимо выставленных в ряд тазиков-коробок-кастрюль — кухню. И уже в конце пути, прошмыгнув сквозь занавеску застиранных до прозрачности детских кофточек, юбочек и ползунков — дверь, — выныривает к рельсам.
Там уже возносят молитву Аллаху братья и племянники Салима. Все они здесь родственники, все приехали из одного аула. Машинисты не удивляются — за время существования “подпольного” поселения они уже привыкли.
— Что просим у Аллаха? — повторяет мой вопрос Салим, старательно выговаривая русские слова и попутно сворачивая в тубу молельный коврик. — Чтобы нам следующей весной не пришлось забиваться в вагон по 40—50 человек, класть жен и детей на третью полку. Чтобы не было нужды спать на голой земле. Чтобы наши дети не играли в футбол прямо на рельсах, рискуя каждую минуту оказаться под колесами поезда. Но пока это невозможно — на то, что мы заработаем здесь, в нашей деревне можно прожить целый год. Всей семьей.
Вопрос “зачем приезжаем?” крутится в голове Салима постоянно — когда он, некогда лучший инженер на заводе, таскает на свалку огромные мусорные баки, зарабатывая лишнюю копейку. Когда он, человек с двумя высшими образованиями, моет унитаз в железнодорожном вагоне. А когда грязный, пропитанный соком мусорных баков, на четвереньках влезает в каморку из картонных коробок и видит дочек, уминающих батон хлеба, понимает — “чтобы выжить”.
“Муж и жена — единое целое”
В каморке Алика сыро и темно. Только что прошел дождь, и вода, просачиваясь сквозь щели в крыше-платформе, тонкой струйкой капает на несколько пар замызганных детских башмачков, на плюшевого зайца, нам на головы.
— Сейчас жена придет с кухни, будем плов кушать! Нет, мы его редко готовим, специально для гостей. А сами в основном питаемся хлебом, гречкой или макаронами — и будто в подтверждение своих слов Алик одной рукой режет батон, а другой пытается напоить крикливый сверточек — дочку. От его неуклюжих движений в бутылочке плещется вода. Молоко они не покупают даже для детей. Дорого.
Всего в семье Алика их шестеро. Самой младшей недавно исполнилось два месяца. Она родилась уже здесь — между колеями двух железнодорожных путей.
— Обычно, когда кто-то из нас серьезно заболевает, мы вызываем “скорую”. Они приезжают, делают укол, даже в больницу могут забрать. Вот и когда женщины рожают, врачей вызываем, — объясняет Алик. — Правда, нездоровится нам редко. За все время у нас даже горло ни разу не заболело.
— А как же вызываете, связи-то у вас нет?
— Как-как? По сотовому… — обижается собеседник и с гордостью достает из кармана жилетки поцарапанный “кирпич”. — Здесь без связи нельзя, может хозяин со стройки позвонить, на работу вызвать. А заряжаем телефон мы в туалете вокзала — за 10 рублей.
Пока мы разговариваем, сверточек тоже не дремлет — изо всех сил сражается с влажной соской и с хваткостью младенца щиплет Алика по бугристым от ожогов щекам. Алик дочкиных щипков почти не ощущает — с того момента как его обожгло взрывом на войне, кожа потеряла чувствительность. Врач тогда сказал “пройдет”, надо только втирать специальную мазь, да денег на лекарство не было. Не было их и потом, когда они всей деревней в первый раз приехали в Россию. Тогда они осели в Сергиевом Посаде, а Алик ежедневно ездил в Москву — просить милостыню. Ему, с обожженным до мяса лицом, подавали щедро.
— А потом отыскали этот перрон, — подытоживает свой рассказ обитатель платформенных трущоб. — Жилье нам снимать дорого, а на стройки, где живут почти все таджики, нам путь закрыт. Кто же нас пустит с женами и шестью детьми?
— А почему вы тогда семью в Таджикистане не оставите?
— Э-э, что ты! Это пока я буду здесь деньги зарабатывать, она будет там одна сидеть? — то ли намекая на супружеское непостоянство, то ли на неспокойную ситуацию на родине, парирует собеседник. — Лучше уж здесь вместе кантоваться…
Нелегальное таджикское поселение “живет” всего несколько летних месяцев — в мае мигранты садятся на поезд из Душанбе, а в октябре, как только у нас становится холодно, возвращаются обратно. Жильцы уже и сами не помнят, сколько лет провели они в этих подплатформенных казематах — все года в их памяти плотно утрамбовались в один. Каждый год они по-новому обустраивают ту же самую каморку, в которой жили прошлым летом, — ходят по деревням, выпрашивают у местных ненужные одеяла, тазики, детские игрушки. А потом на несколько месяцев пытаются создать в зоне отчуждения свой Таджикистан — временный.
“Злые к нам заходят редко”
В пятницу таджикский город вымирает. Все мужское население от пятнадцати и старше спешит на “ярмарку вакансий”: Ярославский вокзал. Со всеми не уезжает только Назри и еще двое мужчин, сегодня их оставили охранять женщин и скарб в лагере.
— А как иначе? — удивляется моему вопросу Назри. — Стоит только уйти нам всем вместе, как здесь начинают пастись бомжи или пьяницы.
— Значит, денег на этой неделе ты не заработаешь?
— Почему? После работы мы отдаем все заработанное старейшине. Он поровну распределяет деньги между всеми семьями.
Пока мы с Назри разговариваем, с платформы на крыльцо его “землянки”, нетвердо перебирая руками по железным прутьям, спускаются двое: молодой человек сжимает в синюшных от татуировок руках банку джин-тоника, лицо женщины больше похоже на кровавую отбивную, в которой прорезаны щелочки для глаз.
— Он? Рожа поганая! — незваный гость подходит к первому попавшемуся таджику и хватает его за футболку. Подруга отрицательно качает головой.
— Бабу мою кто-то избил, вот мы и ищем… — объясняет мужчина и тут же кидает к спутнице: “А ты смотри лучше, дура”. Защитник сканирует похмельным взглядом всех обитателей поселения и, уже немного смягчившись, заканчивает свое опознание чисто русской просьбой.
— Выпить-то хоть есть? Что, нет? Тогда тащите воду, — явно почувствовав себя начальником, приказывает пришелец. Девочка лет шести с радостью протягивает гостям пятилитровую канистру. Последнюю. За следующей партией придется кондыбать в депо к гидранту — десять минут по железнодорожным путям. “У, понаехали тут!” — бросает юноша в качестве благодарности на прощание.
— Ну и как здесь оставишь женщин одних? — спрашивает у меня после увиденного Назри. — Но такие злые к нам заходят редко — чаще обычные бомжи или люди с платформы — просто на экскурсию.
“Он старше, а значит, прав”
Раз в неделю в общине — базарный день. Из местной церкви приходят старушки с собранной среди прихожан гуманитарной помощью — детской одеждой, штанами, башмаками, одеялами. Иногда приносят печенье, банки с вареньем. Чаще — старые игрушки, пеленки. Все то, что не забрали малоимущие. Дети и женщины ждут прихожанок, как Деда Мороза, — заваривают в жестяных кружках дефицитный зеленый чай, все утро кашеварят плов.
— Жалко мне их, — сетует одна из благодетельниц, сжимая в руках кружку с редкими чаинками. — Работают с утра до ночи на самых грязных работах, не пьют, а живут хуже собак. Мне уже даже семья эту мою благотворительность в укор ставит. Говорят: “Что ты им помогаешь? У нас вон сколько нищих, а это ведь…” На этой фразе божий одуванчик осеклась, но тут же исправилась — “таджики”.
Пока благодетельница разглагольствует о нелегкой судьбе “незваных гостей”, женщины принимаются за подарки — разрывают целлофановые пакеты, раскладывают шмотье рядом с рельсами.
— Гиретон! (уберите — тадж.) — прикрикивают на них мужчины и тщательно следят, чтобы все до мелочей было убрано с железнодорожного полотна. Община живет по своим законам, и первый, самый важный из всех — ничего нельзя оставлять на рельсах.
— Однажды кто-то из пацанов оставил мяч, потом увидел, что едет поезд, и кинулся его подбирать. Слава Аллаху, что ничего не произошло, — вспоминает Салим. — Хоть поезда здесь и редко проходят — запасной путь. Но все равно опасно.
В самый разгар “распродажи” из конуры, оборудованной под прачечную, с тазиками наперевес, груженными распашонками, штанами и ползунками, выплывают остальные жены. За подолы цветастых халатов цепляются чумазые ребятишки. Кто-то из детишек вырывает у другого пушистого медведя. Рядом их мамы “играют” в перетягивание штанов. В воздухе пахнет ссорой. Внезапно весь крикливый базар затихает — над женщинами нависает грузная фигура старейшины.
— Жим! Ман инжаба хужайин! (Тихо! Здесь я решаю! — тадж.) — кричит “вождь” женщинам и брезгливо раскидывает тряпки между семьями.
Перечить не берется никто — второй закон общины гласит: во всем слушаться старейшину. Он отвечает за всю жизнь маленького “подплатформенного” городка. Он всегда прав.
— Он распределяет, кто на какие работы идет. К нему же идут, когда кто-то что-то не поделил, — объясняют мужчины. — Хотя ссоримся мы редко. Вот он, например, мой дядя, мы с ним никогда не ругаемся. Он старше, а значит, мне его нужно слушаться. А старейшина, так это вообще самый старший из нас человек — ему уже лет 60.
“Выселят нас отсюда, где тогда жить?”
Вечером весь табор собирается на кухне — вокруг костра. С привокзального рынка прибегают пацанята, груженные ящиками из-под фруктов — дровами для импровизированной печки. Над закопченными тазами уже колдуют женщины — таджикский плов с русским колоритом (“килограмм риса, полкило морковки-лука, вместо баранины — куриная нога”). Община скидывает тапки, рассаживается на картонных коробках, клочках целлофана. В центр ставят побитый кособокий приемник, из утробы которого доносится: “сегодня Президент России посетил…”
— А что ты удивляешься? — недоумевает Салим, руками накладывая в алюминиевую плошку рассыпчатый рис. — Мы здесь новости почти каждый день слушаем. Вот недавно ваш президент Анатол Дмитриевич (сложное ФИО нового гаранта Салим до конца еще не запомнил, не то что его предшественника) открыл школы для мигрантов. Я бы хотел, чтобы мои дочки туда ходили — учились русскому языку. Но кто их водить-то будет? Нас ведь даже в метро милиция не пускает. Приходится самому учить девочек по русской газете. Зато теперь они уже почти все буквы знают. Да ты лучше сама у них спроси, когда с женой из бани вернутся.
— Откуда?
— Да с вокзала, из душа…
Оказывается, раз в неделю у таджикского племени — банный день. Вереницей, прихватив с собой тазики и хозяйственное мыло, таджики идут на вокзал, в душ. Такса за помывочные услуги — 50 рублей с человека.
— Конечно, это для нас слишком дорого, — возмущается собеседник. — Чтобы одной семье помыться, нужно как минимум триста рублей на ветер выбросить. А мы иногда со стройки привозим по шестьсот, а на это еще жить неделю надо. Поэтому самых маленьких мы купаем прямо здесь, под платформой.
— А милиция-то к вам сюда не заходит?
— Э-э-э, — машет рукой Салим. — И не спрашивай — половину заработанного приходится им отдавать. Правда, сюда они не заходили еще ни разу. Вы вот тоже не пишите, где мы живем. А то ведь выселят нас отсюда, где нам тогда жить? Без регистрации, без прав, без денег…
…За нашими спинами, прямо под табличкой “ходить по путям опасно”, спотыкаясь о рельсы, гоняет сдувшийся мяч пара пацанов лет десяти. Отзываю ребят к платформе, спросить, хотят ли они возвращаться домой, в Таджикистан?
— Нет, я в Москве хочу остаться, здесь хлеба много. И игрушек… Вот вырасту, женюсь на русской, буду водителем поезда и заберу всех к себе!
“Да-да, да-да, да-да” — с усмешкой врываются в мечты мальчика колеса проезжающего по путям локомотива.