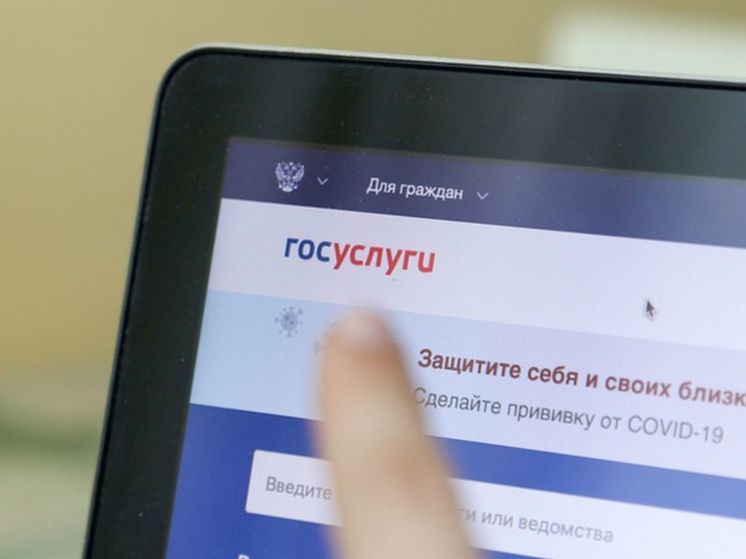Нет дома без огня
Убить маму и убить любовь — не одно и то же
В каждом письме один и тот же набор слов.
Какой пожар? Кто такой Коля?
Пишет и пишет.
А я не отвечаю и не отвечаю.
Почему не отвечаю — потому что денег на новый дом для автора письма у меня нет, а раз нет, стараюсь квартирными историями не заниматься. Разве что в самом крайнем случае.
Наконец ответила: извините, с получением новой жилплощади помочь не смогу. Она отвечает: при чем тут жилплощадь?
Стало интересно. Человек пишет про дом и про пожар, а дело, оказывается, не в этом. А в чем же?
Люба Лапушкина (настоящая фамилия у нее другая, но такая же ласковая) всегда считала себя дурнушкой, и мать очень поддерживала ее в этом вопросе. Мать всегда прямо так и говорила: ничего не поделаешь, ты никакая. Сама Прасковья Филипповна была, что правда, то правда, очень хороша собой. Небольшого роста, складная, черноглазая, на щеках и на подбородке ямочки, дело шло к седьмому десятку, а на нее все еще заглядывались мужчины. Люба привыкла к тому, что она никому не нужна, и смирилась с этим. В школе у нее не было мальчика, в институте никому даже в голову ни разу не пришло пригласить ее в кино. А она не расстраивалась. Она знала, что она никакая и что именно так и должно быть. Жили они с матерью в старом деревянном доме в подмосковной деревне. Сейчас это уже Москва, а в те времена до института и обратно добираться было целое дело. Училась Люба в областном педагогическом, на учителя начальных классов. После института никуда не ходила, нигде не бывала. Несколько раз подруга брала ее с собой в “Ленком”, так и то потому, что ее молодой человек не мог составить ей компанию. Ну еще дни рождения. Вот и все.
Однажды подруга — та самая, с которой они ходили в театр, — пригласила ее на свадьбу.
На свадьбе было очень весело, танцевала даже Люба. А поздно вечером у новых туфель сломался каблук. Оно бы и обошлось, эка невидаль, да нога у нее оказалась крошечная, что ей ни предлагали, ни в чем она даже до порога дойти не могла. И тогда один из гостей сказал: “У меня машина, я вас отвезу”.
Люба сразу поняла, что никуда он ее не отвезет, кто же поедет за город из-за чужого каблука? Но Николай сказал, что машине все равно куда ехать. И они поехали.
Ну что такого он сказал ей по дороге? Что у нее чудесная улыбка, что с ней интересно разговаривать, что свою дочку, которая после развода осталась у жены, он с удовольствием привел бы учиться в ее класс. Каждое воскресенье он целый день гуляет с ребенком по Москве, обедать они ходят в детское кафе на Арбате. А потом дочка плачет, не хочет, чтобы он уходил. Хотел бы иметь много детей, но не сложилось.
На другой день он заехал за ней в институт. Но все самое главное случилось, конечно, накануне. Она влюбилась. Уже в машине она поняла, что влюбилась. И ей было совершенно все равно, понял он это или нет. И она даже не подумала, как это бывало раньше, что надо поскорей от этого избавиться, чтобы потом не мучиться, не казниться. То, что с ней случилось, было так хорошо, так радостно, так сладко, что ей было почти все равно, сколько за все это придется заплатить. Надо будет отдать все — отдаст. А что все? Длинные вечера с мамой? Ни мама, ни она ими не дорожила. Мама работала медицинской сестрой в деревенской больнице. Она считала, что вся жизнь этой больницы держится на ней. Может, и правда так оно и было. У нее был долгий роман с врачом, но жениться на ней он не собирался. Все об этом судачили, мама заставляла его ездить с ней в санаторий, у нее даже вырывалось иногда “мой муж”... Отдать это Люба была готова в любой момент.
Известие о том, что дочь собирается замуж, чуть не свело Прасковью Филипповну в могилу. Да как же так? Ее дочь, дурнушка, каких на свете мало, выходит замуж, а она так и не смогла отбить этого безвольного очкарика у его беззубой кикиморы! Ах, какие прекрасные зубы были у Прасковьи Филипповны, как молочный миндаль... Но ведь не смогла. А Люба ее не послушалась. И Колька, зять, дочке на свадьбу машину подарил. Новенькие “Жигули”. А ну, сочтемся своими: бабушкин внучатый козел тещиной курице как пришелся?
А никак не пришелся.
Вот не пришелся, и все.
И стали они жить в старом деревенском доме втроем, потом вчетвером, вслед за дочкой родился сын, а Прасковья Филипповна от горя прямо не знала куда деваться.
Потому что даже дырки в карманах у Любиного мужа были устроены не так, как у всего человечества. И ходил он не так. И ел не так. И разговаривать с ним было не о чем. И детей он баловал. И в огороде все делал по-своему. И забор у соседей починил ей назло. И террасу к дому пристроил не с той стороны. Люба-то, дура, только что руки ему не целовала, а может, и целовала, кто знает. Утром — обнимаются, с работы придут — целуются, за стол сядут — не наговорятся. С ума можно сойти. И что совсем уж непонятно, все соседи, все знакомые как сговорились: “Ах, как Люба похорошела! Ах, как она расцвела!”
Когда внуку Пете, который, как на грех, был как две капли воды похож на зятя, исполнилось три года, Прасковья Филипповна в последний раз попыталась схватить жар-птицу за хвост. Переехала-таки к своему овдовевшему возлюбленному в соседнюю деревню, ремонт в доме сделала, огород посадила. А возлюбленный от счастья как запил, только его трезвым и видели. То есть вообще не просыхал. Пришлось возвращаться. А дочка с мужем все воркуют, все обнимаются. Зять ее научил машину водить. Устроился в Москве на какую-то фирму, ремонты делать, так его через год начальником сделали, деньгами стал сорить, в Турцию всей семьей ездить начали — это летом, а зимой в Египет. Весь дом какими-то харями завешали, масками, что ли, а потом еще того лучше — стали брать с собой Колькину дочку от первой жены. Вообще обнаглел мужик. И Люба, дура безответная, платья ей покупала, колечки с сережками, и чужая девчонка стала с Любой обниматься, как родственница. Ну?
Долго терпеть это было, конечно, невозможно.
И Прасковья Филипповна пустила в ход свое самое главное оружие.
Она стала хворать.
Почки, печень, поджелудочная, легкие, желудок, глаза — болело все. А уж сердце-то! Ни тебе посуду вымыть, ни пол подмести. Раз зять Любу с работы снял, барыню из нее сделал с маникюром, вот и пусть она посуду моет. А ее, Прасковью Филипповну, пусть по московским больницам возят, в одноместные палаты устраивают. Пусть лекарства дорогие покупают, матери-то грех не помочь, больной-то матери.
И возили, и устраивали, и покупали.
И Люба жалела ее, беспокоилась, искала профессоров. Зять ей путевку в Карловы Вары купил, денег дал, чтобы она купила себе что-нибудь, даже украшения гранатовые — что захочет. В Карловы-то Вары она поехала, конечно, и украшения себе купила, и пальто кожаное тоже купила. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как ей было обидно, что Люба, ее послушная, безответная дочь, которой в школе никто ни одной записочки про любовь не написал, так предала ее. Прасковья Филипповна о ней беспокоилась, переживала, искала мужчину в возрасте, чтобы составил ее счастье, чтобы они жили как все, а не целовались на глазах у всех и не подавали детям дурной пример.
Одиннадцать лет Прасковья Филипповна терпела.
Но вечно это продолжаться не могло.
И Прасковья Филипповна принялась ежедневно рассказывать любимому зятю о том, какая Люба плохая.
То есть не плохая, конечно, как это можно такое сказать о собственной дочери? Но готовить она не умеет — ах, как трудно мужчине жертвовать любовью поесть в пользу невкусных котлет и простеньких супов, повторяющихся, кстати, изо дня в день. Вот Прасковья Филипповна готовит — это да! Но она больной человек, у плиты стоять не может, приходится довольствоваться тем, что стряпает дочь. А как от этого болит желудок! Сама, конечно, виновата, не научила, так ведь целыми днями пропадала на работе, на хлеб зарабатывала.
И одеваться Люба тоже не умеет. Фигура у нее, конечно, неплохая (ничего, скоро расползется, годы никого не красят), но что ни покупка — все блеклое, незаметное. Коля купил ей шубу, а шарфик она подобрать не сумела, как досадно. И все сумки у нее деревенские. Ну а какие они еще могут быть, выросла не на Арбате, корову еще подоит, а сумку с шарфиком — нет, не подберет.
А как она с детьми обращается? Рохля и тютя, вьют из нее веревки. Характером не вышла, что ты будешь делать?
И еще где это видано, чтобы деревенская баба не умела делать запасы на зиму, варенье варить, банки закатывать? Варенье, говорит, не люблю, и муж не любит — что с того? Все делают варенье, мало ли. А консервы делать просто незачем, сейчас все в магазине можно купить. Барыня нашлась. Ей лишь бы деньги потратить, которые Коля с таким трудом зарабатывает, не жалко ей мужа, совсем не жалко...
Николай не сразу понял, что происходит.
Первое время он успокаивал себя тем, что теща вошла в возраст, когда с людьми случаются всякие странности. Послушает, улыбнется, отшутится — и весь разговор. Но Прасковья Филипповна не унималась. С каждым днем ее выступления становились все более агрессивными. Кроме того, у нее появилась скверная привычка занимать у дочки деньги и не отдавать их. Зачем занимала, и сама объяснить толком не могла: то какой-то старой приятельнице на похороны, то в Самару родственникам послать — каким родственникам? И отказывать было неловко, и деньги выбрасывать в костер отмщения (непонятно за что) не хотелось. Николай пробовал поговорить с тещей, но она сразу начинала плакать. Это тоже была новинка в репертуаре, тут он вообще терял способность правильно реагировать на происходящее, и все на этом заканчивалось.
Утром 8 марта Николай собрался ни свет ни заря и уехал.
Прасковья Филипповна посмотрела вслед машине, разбудила дочь и стала объяснять ей, как плохи ее дела: такой замечательный праздник, а муж уехал и слова не сказал, перед соседями стыдно, к ним сегодня гости придут, и к другим соседям, через улицу дети приедут мать поздравлять, подарков, наверное, навезут, а бедной Любе на это смотреть и слезами умываться. Больше ничего не остается. В таких разговорах прошел завтрак, за ним обед. Люба молчала, а мать заходилась все больше и больше. Дети с тоской переглядывались: и правда, где же отец, хоть бы уж появился и прекратил эту пытку.
И он появился. Сияя, вылез из машины с какой-то корзинкой. А в корзине оказался щенок шарпея, бархатное создание с круглыми от неведения глазами трех недель от роду. Люба поцеловала щенка в ухо и, сияя, понесла сокровище в дом. Угодил. Жена давно говорила, как ей нравятся шарпеи. Вот...
Сначала Прасковья Филипповна стала серой, потом зеленой. У нее задрожали руки и затряслись губы. Выбросить деньги на какую-то дурацкую собаку, за которой надо ухаживать, как за грудным младенцем! Как можно! Она терпеть не может собак! Это ее дом, и она требует, чтобы все было так, как ей хочется! Она была против этого брака!
Николай стоял у окна в гостиной и молча слушал, что кричала теща. Дети взяли щенка и ушли на террасу. Бедная дочка, заходилась теща, сколько же она будет страдать от такого ублюдка...
Слово “ублюдок” оказалось последним.
Николай медленно двинулся в сторону Прасковьи Филипповны. На лице его появилось страдальческое выражение, точно боль, о которой никто не знал, стала нестерпимой. Это видение вошло в Любино сознание, в ее память, и теперь уже понятно, что навсегда. Николай выбросил вперед руку, как будто хотел избавиться от чего-то отвратительного, отшвырнуть подальше. Он убил ее ударом в висок, единственным ударом.
На похоронах матери Люба не проронила ни слезы. Плакала только дочь.
Николая взяли под стражу в зале суда.
За убийство тещи ему дали шесть лет. А по деревне пополз слух о том, что тихоня Любка подговорила мужа убить мать и теперь ездит, стерва, к нему в колонию, возит дорогую колбасу и ждет не дождется, когда он выйдет.
Кто поджег дом, так и не выяснили. Хорошо, пустой. Люба с детьми уехала на длинное свидание. Дом сгорел дотла, а ночевать их никто к себе не пустил. Поздно вечером сели в машину и уехали в Москву, к Колиным друзьям.
Дело о поджоге который год ходит по судам. Друзья дали в долг на однокомнатную квартиру. У Коли в колонии был инфаркт.
Чужое горе вынести легко, трудно вынести чужое счастье. Шарпей вырос и ходит за Любой как тень. Она говорит, что часто думает о матери и постоянно — о муже. Мать не снится, а муж снится часто и во сне все просит о чем-то.
Кто это сказал: если двое любят друг друга, это не может кончится счастливо?..