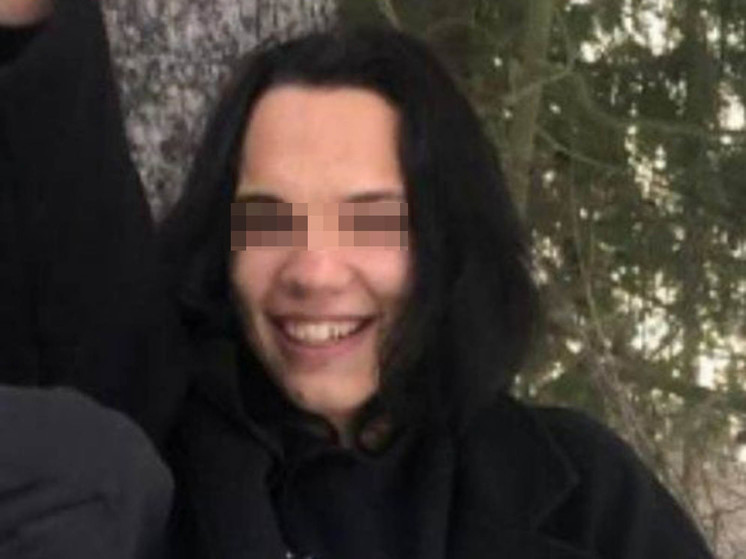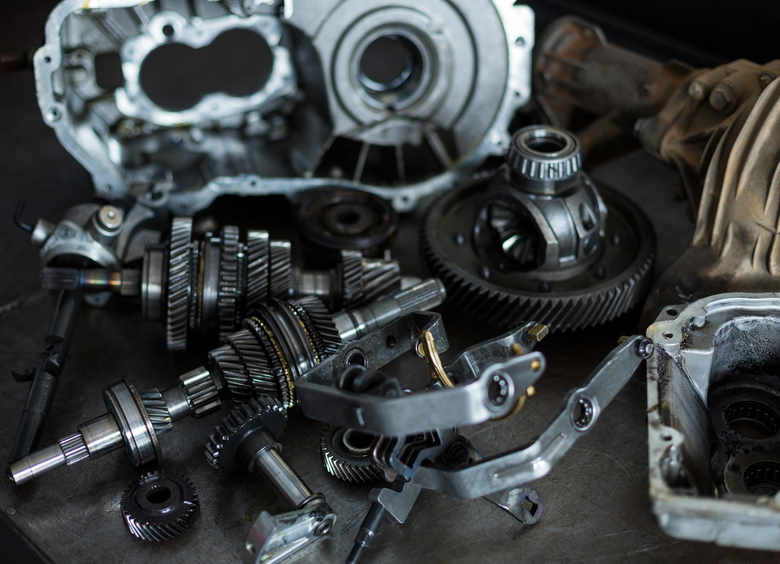На пустыре я с двоюродным братом жгу переплетенные в коленкор “самиздатовские” рукописи. Что такое “самиздат”? Моя мама работает в издательстве “Художественная литература” машинисткой. И в свободное от официальной занятости время перепечатывает запрещенные произведения. Ее пишущая машинка “Континенталь” может сделать под копирку четыре копии. Но мама подкладывает пятый, получающийся подслеповатым экземпляр. Для себя, чтобы можно было почитать без спешки. Ведь “Раковый корпус” дают на одну ночь и забирают утром, чтобы передать следующим. Приезжают Марлен Кораллов, Майя Абезгауз или Лев Пинский и везут еще кому-то. Кому? Фамилий и имен, разумеется, не называют. Что будет, если их с этой запрещенной литературой схватят? Но страх не только в этом. Сегодня, в эпоху ксероксов и сканеров, невозможно вообразить: в те дни машинистки обязательно сдавали образцы шрифта своей пишущей машинки в соответствующее контролирующее учреждение. Таким образом сразу и легко можно было определить: кем именно осуществлена перепечатка фолианта. Ни Орвелл, ни Бредбери, кажется, до подобного не додумались. Но у Солженицына в одном из его романов есть нечто похожее: по звуку и тембру голоса вычисляют отваживавшегося на телефонный звонок-предупреждение смельчака...
...События, которые пытаюсь реконструировать, возможно, окажутся смещены во времени. Но это неважно. Важна суть, квинтэссенция, атмосфера, в которой они происходили. Мне двадцать лет. Я — студент журфака. Один из первых дней рождения Корнея Ивановича Чуковского, который отмечается после его смерти. 1 апреля. По тающему снегу я иду от платформы Переделкино к писательскому поселку, долго стою на мостике над речушкой, переливающейся в лучах яркого весеннего солнца. За накрытым столом оказываюсь рядом со Львом Копелевым, Александром Борщаговским и Арсением Тарковским, которого Борщаговский почему-то, возможно, из-за раскосых глаз, называет в том разговоре Чингисханом. Копелев сообщает: Генрих Белль заявил о своей безусловной поддержке Солженицына, и это сильнейший удар для советских, поскольку Белль считался своим, прогрессивным, то есть антибуржуазным, прикормленным и, значит, поддерживающим политику СССР.
Для меня, молодого человека, крайне важно, что и Вениамин Александрович Каверин, автор знаменитых “Двух капитанов”, которому я вожу свои первые литературные экзерсисы, занимает столь же ясную и определенную позицию в вопросе о Солженицыне. Поразительная сплоченность достойных людей! (К этому времени мною, разумеется, уже прочитаны и “Один день Ивана Денисовича”, вышедший после “новомирской публикации в “Роман-газете”, я храню этот затрепанный выпуск до сих пор, и “Случай на станции Кречетовка”, и “Матренин двор”.) Но все разом изменилось: Солженицын в опале. Каверина вызвали, грозили, что перестанут печатать, однако его твердость не поколебали. Константин Федин, глава Союза писателей и член редколлегии “Нового мира”, самолично отправился в типографию и рассыпал, разметал набор “Ракового корпуса”, подготовленный к печати. Каверин пишет личное возмущенное письмо бывшему другу из объединявшего их Серапионова братства. И Каверина действительно перестают печатать. Незаменимых и неприкосновенных нет! Мне Вениамин Александрович, который знает, какие рукописи множит мама, глухо говорит, что лучше бы эти улики дома не хранить, возможны обыски, и я везу переплетенные и несброшюрованные книги сначала родственникам, а потом мы с братом все же решаем их уничтожить. Вместе с “Раковым корпусом” в огонь летят “В круге первом” и “Крутой маршрут” Гинзбург, “Колымские рассказы” Шаламова и полный, без цензурных купюр, вариант “Мастера и Маргариты”... Но страх не проходит: во-первых, нас может выдать, донести переплетчик. Во-вторых... Рука не поднимается предать огню крохотный рассказик Солженицына, который дал мне почитать мой одноклассник Миша Цыпкин — о крестном ходе, удивительно воссоздавший то, что я сам видел, когда приходил к церкви в Пасху: “победительные” (это изобретенное Солженицыным определение с тех пор не изглаживается из памяти) лица подвыпивших юнцов (как и вопрос: “Кого они в своей жизни победили?”), милиционеры, которые никого к церковной ограде не подпускают... Этот рассказик я сам перепечатал на маминой машинке и храню его в своем письменном столе. Вдруг, если будет обыск, его найдут? Что я тогда скажу? Как объясню наличие этого рассказа у себя? И что со мной будет? Исключат из МГУ? Забреют в армию? Душа поеживается в груди. Но рассказик я все же не выбрасываю, храню.
Похороны Твардовского в Доме литераторов. Заранее известно: должен прийти Солженицын. Известно и то, что его не должны пустить. Администраторы предупреждены, всюду дежурят люди в штатском, очередь пришедших проститься с Александром Трифоновичем простреливается и просеивается их цепкими взглядами с разных сторон. Но Солженицын загадочным образом возникает прямо возле гроба. Люди шепчутся: его провели заранее, переодетого, через потайную дверь... Поразительное время, поразительная смелость, поразительное, еще раз это подчеркну, единство тех, кто отстаивает свободу в условиях ее полной, казалось, обреченности! Тот таинственный проход Писателя сквозь препоны и сегодня кажется мне глубоко символичным. Солженицын своей судьбой подтверждает неслучайность всего с нами происходящего: он трижды должен был сгинуть — на фронте, в лагерях и от смертельной болезни. Но Провидение упрямо не отдало его смерти, будто наперед зная, какую великую миссию ему надлежит осуществить... Освоить “Архипелаг ГУЛАГ” — такое под силу только титану.
События развиваются по нарастающей. Газетные заголовки: “Литературный власовец”, “Солжец” и тому подобные. Обсуждаем с Александром Борщаговским подборку писательских откликов в “Правде”, поддерживающих выдворение Солженицына из страны. Совершенно ясно, что рядом с искренне одобрительными, от души идущими всхлипами восторга (и таких большинство) печатаются вынужденные, вытянутые насильно строки. Например, сухие, отстраненные, констатирующие, но никак эмоционально не оценивающие произошедшее слова Константина Симонова: “Солженицын поставил себя вне советской литературы...” (Цитирую по памяти.) Что ж, так и есть. Поставил вне. Не обошлось, мне кажется, и без скрытых издевок над властью. Борис Полевой написал: “Дурную траву — с поля вон”. Вкупе с подписью, которую он поставил — “Полевой”, это читалось как горькая ирония над самим собой.
Своим присутствием Солженицын сплачивал, цементировал, влиял. Рядом со смелым и широким человеком легче самому быть широким и отважным. Разобщенность после его отъезда наступила очень быстро. Возможно, она существовала и при нем, но в его присутствии как-то неловко и постыдно было проявлять и демонстрировать узость собственных взглядов.
В Сальске, под Ростовом, где “Литературная газета” проводила “круглый стол”, я оказался в машине с крепко выпившими на банкете Евгением Носовым и руководителем Ростовской писательской организации Петром Лебеденко. Зашла речь о Борисе Можаеве.
— Солженицынский эпигон, — сказал Евгений Иванович. — Играют, понимаешь, в жидов...
Лебеденко довольно и поощрительно засмеялся:
— Женя, разве “в жидов” играют?
— Еще как!
Сегодня, когда не утихают споры вокруг книги Солженицына о судьбах российского еврейства, а в рядах людей демократических взглядов нет единства и энергии, я с ностальгией вспоминаю трогательные интеллигентские иллюзии совсем еще недавнего прошлого.