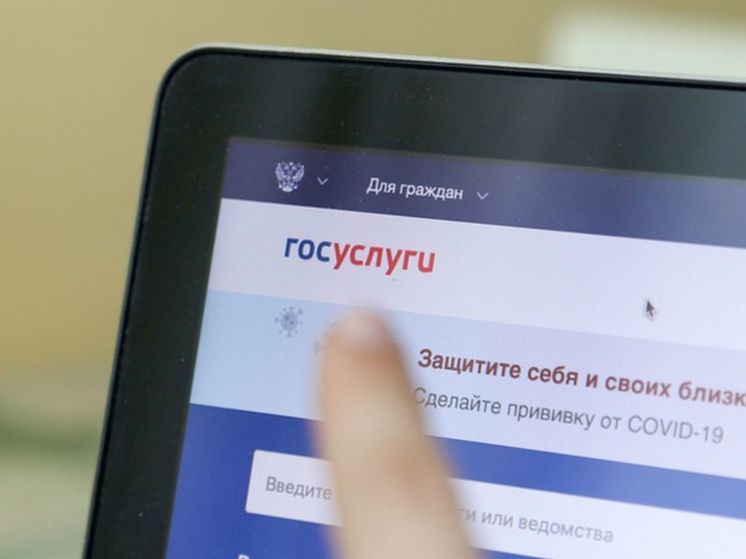Леонид Парфенов. 39 лет. Женат, двое детей. Профессия — творец. То, чем он занимается, совсем не подходит под узкие рамки нашего посконно-расфуфыренного ТВ. Скажем прямо, в Останкино он Гулливер среди лилипутов.
- Ну, расскажите, откуда пошел-появился г-н Парфенов.
— Я родился в Вологодской области, в городе Череповце. Закончил журфак в Питере.
— В семье сколько детей было?
— У меня есть младший брат, он сейчас бизнесом в Питере занимается.
— Кто родители?
— Папа инженер-металлург, мама учительница.
— Школу закончили с золотой медалью?
— Нет. Получше были дела с литературой и историей, а так особых достижений не было.
— Чистый гуманитарий?
— Да, в технике ничего не понимаю. Хотя у меня папа кандидат технических наук, но и он не мог мне объяснить, что такое электрический ток.
— Нелюбимые предметы были — физика и геометрия?
— Не было у меня нелюбимых. Понимаете, там же обычная советская школа, да еще провинциальная. Там оценку ставили в основном за прилежание. На экзамене по физике мне попался этот... как его... конденсатор. Я совсем не представлял, как он устроен. Все, что я смог, это нарисовать прямоугольник, два контакта, над одним написал плюс, над другим — минус. Это заняло 15 секунд. Еще я помнил, что первым конденсатором была лейденская банка, поэтому я все рассказал, что знал о голландском городе Лейдене.
— И получили заслуженную тройку?
— Получил "четверку", хотя мне, конечно, сказали, что это было замечательное вступление и можно переходить к основной теме. Переходить мне было не к чему. Но мальчик был в отглаженном костюмчике и галстучке и бойко употреблял сложноподчиненные предложения.
— Но с литературой было по-другому?
— Вы хотите сказать, что теперь я стал большим специалистом в этой области? Это проблема массового сознания и ТВ. У нас главным путешественником считают Сенкевича, а главным ученым — Капицу, разумеется, Сергея Петровича, а не Петра Леонидовича.
— А главным историком считают вас.
— Да, я и историк советского периода, и пушкинист, и еще что-то. Меня показывают по "ящику", который смотрят миллионы людей. Вот от суммы их впечатлений и кажется, что Бог весть что случилось. А на самом деле ничего особенного.
— То есть вся проблема в "ящике", а не в людях, которые этим занимаются?
— Ну, мне хочется надеяться, что что-то и я создал в том, что вы называете "проблемой". Но "ящик" этот эффект просто страшно усиливает.
— И как на это смотрит человек, который считается главным историком и главным пушкинистом?
— Ну что, остается смириться. Потому что, если действительно считать себя главным пушкинистом...
— То можно в Кащенко загреметь.
— Да, прямая дорога в Кащенко. Или на Пряжку. Или в Кувшиново.
— Куда?
— Пряжка — речка такая в Питере, там клиника, как Кащенко. Кувшиново — дом сумасшедших под Вологдой. Это так бы сказали про сбрендившего в моих родных местах. Я себя не могу не ощущать вологжанином — я там родился и вырос, три года работал на областном ТВ. Но я отчасти и питерец. Это был мой первый большой город, я там учился и начал работать. Ну и 13 лет жизни в Москве. Я уже привык к ней, нашел способ существования. Тут надо каждый раз приноравливаться, ведь эти места не просто разные, а взаимоисключающие. Одно время я чувствовал себя почти как дома еще и в Софии. Но в последние годы я там не бываю, да и то, что там произошло, большой радости не внушает.
— У вас уже не осталось комплекса провинциала?
— У меня его никогда не было. Но Москва — это достаточно бесчеловечное место. Сжиться с ней трудно. — Как вы это ощущаете? — Огромное пространство с гигантскими спальными серыми районами.
— Здесь, в Москве, серость?
— Да.
— А в Питере?
— Там это стиль. А здесь — массовая застройка.
— А жизнь здесь разве не кипит?
— Это другое дело, Вавилон — замечательное место для делания карьеры, зарабатывания денег, для ощущения того, что находишься в главном месте. Но для покоя и воли, по определению моего героя и кормильца Александра Сергеевича, Москва не очень подходит. Не случайно те, кому позволяют возможности, живут за городом. Потому что в этом во всем нельзя находиться 24 часа. Можно 10 часов заниматься в широком смысле слова бизнесом — делом, но потом нужно куда-то спрятаться, иначе невозможно.
— У вас получается?
— Да.
— О чем мы говорим: о загородном доме, о семье?
— Мы говорим о семье в загородном доме. То, что называется зимняя дача.
— Вы там проводите большую часть времени?
— Я стараюсь. Если бы не ребячья учеба, мы бы вообще оттуда не вылезали.
— В армию вы загремели после института?
— Нет, это было в промежутке между курсами.
— На два года?
— Ну что вы! Я был на курсантском положении. Журналист в армии входит в число блатных профессий. Там выделяют прежде всего три категории: кто играет на музыкальных инструментах, умеет фотографировать и печатать — то есть печатными буквами плакатным пером оформлять тушью все эти схемы и карты. Ну, и есть еще журналисты. Там я выпускал газету "Рупор". Я ни разу не был в наряде, потому что нарядом был "Рупор". Приходил подполковник, смотрел на верстку: "Так, кого мы отмечаем в положительную, кого в отрицательную сторону?". Там я научился этой стилистике. Ведь в принципе не главное что, главное — как. В советской журналистике существовало несколько стилей. Например, военный: "До позиции синих оставалось 150 метров душистого разнотравья, и их нужно было пройти. Пройти во что бы то ни стало". Я хотел понять, как строится вся эта фигня. И дальше можно на автопилоте писать километрами. Или моя любимая стилистика старой программы "Время": "В тот день, когда мы приехали на поля колхоза "Красный коммунар", добрая выдалась погода, и механизаторы не то что час — минуту каждую берегли. "Когда сеять будете?" — спросили мы Николая Григорьевича Маркова. И ответил старый тракторист: "А как солнышко позволит".
— Я понял, если вас не остановить, то действительно вы можете говорить в таком духе сутки напролет.
— Конечно. То же самое международная журналистика. Я был однажды в Париже на Первое мая, и собкор НТВ Вадик Глускер делал первомайский репортаж. Ну, и мы придумали зачин: "Париж в кумачовом убранстве. Сегодня праздник на улицах трудовой Франции. В этих колоннах нет лощеных буржуа. Идут посланцы рабочих предместий".
— Ну вы и стилист, сэр. Любите на досуге побаловаться подобным образом?
— Это не баловство. Я же говорю: стиль — то есть "как" давно важнее, чем "что". Я посмотрел "Хрусталев, машину!" и еще часа два не мог выйти из нового состояния. Мне хотелось говорить как там. Весь этот звукоряд, стуки-бряки, неожиданные движения, кашель, силуэты, пульсирующий свет, поднимающийся пар, груды снега...
— Телевидение — что это такое прежде всего: бизнес, технология?
— Все на свете. Аудиовизуальное обслуживание населения.
— Страшная штука, в смысле влияния на людей?
— Нет, не страшная, есть много подобных вещей. Эстрада, например. Мы же не претендуем на то, чтобы нашу кассету "Живой Пушкин" поставили рядом с томом Тынянова. И "Намедни 61—91" не надо приравнивать к учебнику новейшей истории.
— Вы все о Пушкине.
— Это последний мой большой эфир в жанре "нетленки".
— Вы уже сделали "Намедни 92—99"?
— Серии почти готовы, с 20 декабря их покажут. Эти последние годы — тоже уже история. Посмотрите, фальшивые авизо, лица кавказской национальности, "черный вторник", сумасшествие по фильму "Титаник" и Ди Каприо, мода на роликовые коньки.— Но это ваша интерпретация. Для вас это было значимо, но не факт, что для других. Вы не претендуете на объективность?
— Не претендую. Это же Евангелие от меня. Но думаю, в основном все было если не объективно, то объективистски. Да, были, конечно, люди, которые полагали, что нельзя на одну доску ставить "Пражскую весну" и мини-юбки. Вот тут я категорически не согласен. Я считаю, что не только можно, но и нужно. Нет отдельно политической истории и отдельно человеческой. Тот же самый человек, который жил в эпоху социализма с человеческим лицом имени Дубчека, жил еще и в эпоху мини. Это одна история.
— Насколько для вас значима советская история?
— Советская история — это не оценка, не приговор — "совок", просто такой период. Это история нашей жизни. Люди жили, любили, рождались, умирали, страдали, мучились, отдыхали
.— Для вас это важно?
— Но это наш опыт. Если вы живете, полагая своей родной историей историю Лихтенштейна, я за вас рад, но у меня нет другой истории, и у тех людей, которые смотрят телевизор, тоже нет.
— Некоторые считают, что "Намедни" — просто ваш стеб. Что вам наплевать на все эти годы.
— Где вы такое прочитали? Ну, там есть некая ирония. Но это самоирония. На одном приеме ко мне подошел Зюганов и сказал: "Большое спасибо, вам это обязательно зачтется". Я рассмеялся и спросил: "При любой власти зачтется?". Он говорит: "Нет, ну что вы, это же так трогательно". Я на такую реакцию Геннадия Андреевича не рассчитывал. Я думаю, этот период нашей жизни вызывает у людей самые разные чувства: и иронию, и меланхолию, и ностальгию, и умиление, и сожаление... Потому что в этом много всего — замечательного, глупого, милого, смешного, наивного, дурацкого, трагического. Там все перемешано, поэтому сказать, что я отношусь только со стебом или только с придыханием, неправильно.
— С придыханием точно нет.
— Я, наверное, ни к чему не могу относиться к придыханием, даже к Пушкину. По-моему, любое придыхание — это пошлость.
— За Пушкина вы уже получили свое от мэтров пушкинистики?
— Им, кстати говоря, понравилось. Они нормально относятся к ТВ. Или не смотрят, а если и смотрят, то понимая: это — не наука.
— Перед "Живым Пушкиным" много книг перелопатили?
— Для телеведущего много, а для какого-нибудь литературного исследователя — это ерунда собачья.
— То есть телеведущий по определению существо неграмотное и малоинтеллектуальное?
— Просто сейчас очень мало кому из телеведущих нужен письменный стол. Я почти не знаю коллег, которые действительно пишут.
— Про вас говорят, что вы единственный на ТВ, кто не пользуется телесуфлером. У вас идеальная память?
— У меня она неидеальная, но мне удобнее надеяться на нее, чем на суфлера.
— Что вы считаете своими удачами?
— "Намедни 61—91", "Старые песни о главном-2" и "Живого Пушкина".
— А провалы?
— Я могу нахально сказать, что явных провалов не припомню.
— Но ведь иногда нужно, чтобы тебя поругали.
— Меня ругают очень часто. Когда пытаешься следовать некоему общему стилю, обязательно находятся люди, которым не нравится вообще все, что ты делаешь.
— А "Место встречи изменить нельзя. 20 лет" — неудача? Хотя бы потому, что не все актеры согласились у вас сниматься, и программа пошла по сугубо воровскому уклону.
— Ну и что. И "Место встречи", и программа по фильму "Семнадцать мгновений весны" были очень заметным явлением. Я впервые такое слышу, что "Место встречи. 20 лет" — неудача. Это нужно очень высоко поставить планку.
— Вы сами ее так поставили.
— Я это считаю достойной работой. То, что там подробно про сучью войну, так до этого про нее никто ничего не говорил. А ведь это объясняет подтекст того убийства, которое совершил Жеглов. Без сучьей войны не понять, почему Левченко не может вернуться на зону: он нарушил воровской закон — служил, был на фронте. И это понимал Шарапов.
— Лужков легко согласился у вас в "Месте встречи" сниматься? Кто его уговаривал?
— Все понемножку. Я давно ему объяснял, что мне нужно интервью о московском ношении кепки. Он засмеялся: "А я не буду выглядеть пижоном?". Я сказал: "Не больше, чем обычно". Он засмеялся еще сильней. Мы как будто обо всем договорились, но Лужков должен был оказаться в естественных декорациях — в старом дворе. По плану у него была поездка на парфюмерную фабрику "Свобода", а это его родной Щипок — один из самых хулиганских районов Москвы, и в соседнем с фабрикой дворе он замечательно все объяснил: как носилась кепка набекрень, как — надвинув на глаза, как — сдвинув на затылок. Лужков выступил как человек того времени, для которого кепарик — это часть жизни.
— В "Намедни" постоянно проходят сюжеты, где вы вещаете с разных концов земного шара.
— Вы поймите, это единственный способ авторизовать историю. Иначе не будет аутентичности, ощущения истории на ощупь. А во всем остальном — это проект очень недорогой.
— Но сколько денег ушло на постоянные перелеты. В результате вышла дорогая программа.
— Нет, не дорогая, успокойтесь. Сейчас она была показана в третий раз, и в ряде случаев набирала рейтинги выше, чем программа "Время". И еще ее покажут.
— То есть все окупилось?
— Я не бухгалтер. Но то, что эта штука долгоиграющая, то, что у нее будет большая эфирная жизнь — точно. Вы думаете, это такая сладость — 19 командировок по стране и 11 за границей? Только одно удовольствие?
— Нет, конечно, но ваше руководство не говорило: "Многого ты, Леня, захотел"?
— Наоборот, было абсолютное понимание. Такие вещи нельзя делать за рубль двадцать.
— Вы себя гением считаете?
— Как только я так посчитаю, то непременно вам сообщу. Я беру старательностью и прилежанием. Как говорил Юрий Михайлович Антонов, композитор и ныне политик, это все надо попкой высидеть.