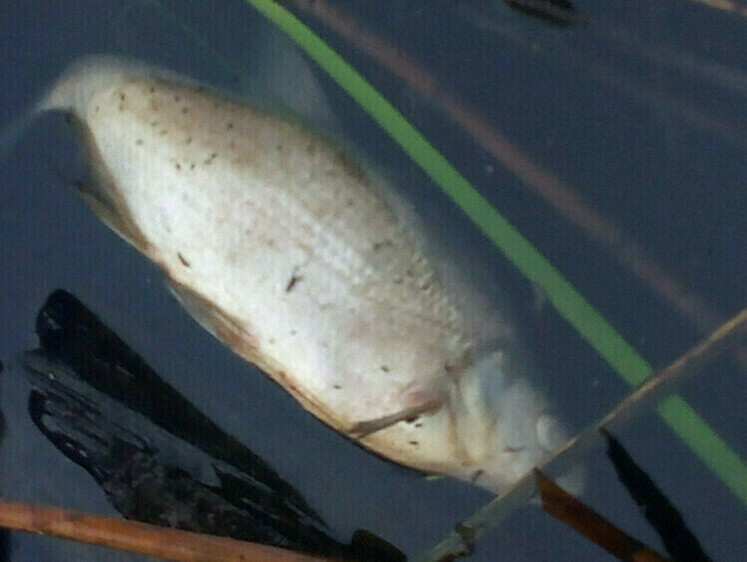Завершилась гонка за Букером. Среди претендентов на звание лауреата был интереснейший роман Леонида Зорина “Юпитер”. Он не стал победным, но многие критики, в том числе и я, считаем роман Зорина лучшим.
Театральные люди любят пьесы этого дерзкого драматурга. В них великолепные диалоги, каждая фраза сверкает гранями отточенного слова, герои осмеливаются показывать свою прельстительность, женщины покоряют духовным излучением. В последние годы Леонид Зорин раскрыл свой талант прозаика. Он не стремится стать фаворитом толпы, не входит в тусовки, где любят и ненавидят по общей установке: свой — чужой.
Он сознательно выбрал затворничество: “...в отдельности есть своя магия”. В 15 странах поставлены 12 его пьес, в том числе “Покровские ворота”, “Римская комедия”, “Царская охота”. Однако Зорин избежал тщеславия, “не уронил себя радостью”.
— Леонид Генрихович, вы испытывали тревогу, касаясь темы Сталина? Ведь советский Юпитер даже из Аида достает нас.
— В моих “Зеленых тетрадях” есть давняя запись: “Никогда не смог бы написать художественного произведения о Сталине”. Душит ненависть. Признаюсь, эта запись моя меня как-то задевала. Что это значит — не могу? Почему же?
— Сколько мастеров с легкостью клепали и раскрашивали сталинский сюжет!
— Написать прокламацию очень легко. Но от прокламации до художества лежит дистанция огромного размера. Для того чтобы остаться в пределах художества, мне нужно было найти какую-то точку, которая позволяла бы преодолеть свое отношение к Сталину. Я понимал: писать о нем нужно, поскольку перестала действовать прививка против этого человека. Недавно в городе Ишиме власти торжественно восстановили его памятник. Что-то, видимо, скрыто в нас всех, и это “что-то” пробуждает потребность в жестокой руке палача... Видимо, она есть, существует. Писать об этом надо.
Вопрос другой: как об этом писать? Я понял, что мое авторское спасение в том, чтобы писать от его имени. Тогда не будет брани с моей стороны, открытой или завуалированной, я остаюсь в пределах художественного произведения.
— А он оттуда, из кромешного небытия, может вам навредить за то, что вы залезли в его душу?
— О себе-то думаю — я устаю: достаточно трезвый человек. Боюсь его влияния на всех! Это страшнее. Боюсь за всю нашу несчастную страну. Здесь его влияние совершенно очевидно.
— Нам всем осточертела глупая капээрэфская демагогия...
— Господин Зюганов разглагольствует про армию, советские победы при полном, глубоко запрятанном презрении к человеческой жизни. И по сей день у нас человеческая жизнь, единственная, неповторимая, не имеет никакой цены. Во имя индустриализации Сталин уничтожил миллионы. Это старая наша традиция начиная с Ивана, с Петра и так далее. Но при Сталине людское уничтожение достигло гиперболических, фантастических размеров. Эта традиция уничтожения оформилась в идеологию: цена жизни человеческой — копейка. В 1945-м пришла же в голову мысль взять Берлин именно к дате — к 1 Мая — и положить еще 300 тысяч за несколько дней до конца войны.
— Ваши близкие от Сталина пострадали?
— Нет. Но пострадали многие вокруг меня, и не обязательно было знать пострадавших лично, чтобы переживать за их судьбы. Мой отец был человеком совершенно исключительных нравственных качеств. Во время репрессивной вакханалии 30-х годов, когда сослуживцев отца объявляли врагами народа, на собраниях, где против них “единодушно” голосовали, отец обычно сидел с руками, скрещенными на груди.
— В “Авансцене” вы приводите трогательное признание вашего отца: он был уверен, что уцелел, потому что маленький сын успел завоевать общие симпатии бакинцев.
— Да, он почему-то считал, будто я его “оборонял” — охранял. Я был бакинской “достопримечательностью”. В 9 лет у меня вышла книжка стихов.
— Кто вам помог издать?
— Я писал стихи. Директор издательства предложил их напечатать... Народный комиссариат просвещения отправил меня с моей книжкой в Москву. Меня направили к Алексею Максимовичу Горькому. Приехал я к нему на дачу в Горках вместе с Бабелем.
— Фантастика!
— У Горького меня познакомили с Маршаком. Алексей Максимович хотел, чтобы Маршак “шефствовал” надо мной... У нас потом с ним были теплые отношения.
Конечно, смешно было считать, что мой детский поэтический успех мог как-то “оборонить” моего отца. В этом смысле отец был глубоко наивный человек. Но по характеру, по убеждениям, по принципам он был из единого куска стали. Жизнь его была невеселой. Очень образованный человек, он знал одну постоянную радость — беседовать со мной. Представляю, каким ударом для него стал мой отъезд из Баку. Остался обездоленным.
— Леонид Генрихович, вас знаменитым сделала пьеса “Покровские ворота”. Она ведь автобиографична?
— Все персонажи пьесы, кроме тетки, — люди реальные, с кем я жил в этой московской квартире. Сам я там фигурирую в образе Костика Ромина. Хотя моя личная биография совпадает с биографией героя, но есть и различие: я никогда не был аспирантом-историком и к защите диссертаций не стремился. В 17 лет меня уже приняли в Союз писателей, и я занимался только литературой.
— В каком театре вас осчастливили премьерой “Покровских ворот”?
— Пьесу поставил Михаил Козаков в Театре на Малой Бронной. Это стало его режиссерским дебютом. На мой взгляд, спектакль получился очень удачным. А фильм “Покровские ворота” он поставил вообще образцово. Молодой Олег Меньшиков талантливо сыграл Костика. Внешне он на меня не был похож. Но южное, брюнетистое нас как-то роднило. В этом фильме весь актерский состав был необыкновенно симпатичен. Сейчас Михаил Козаков хотел бы на телевидении поставить мою “Медную бабушку”.
— Когда-то не позволили Ролану Быкову гениально сыграть Пушкина в этой пьесе. Кого выбирает Козаков?
— В роли великого поэта Козаков видит Виктора Гвоздицкого.
— Как вы, молодой драматург, себя чувствовали в театральной среде?
— Многие годы я отдал драматургии, а стало быть, и театру. Там своя жизнь, достаточно пестрая, шумная... Я написал 49 пьес. А пишутся они совсем по-другому, нежели проза. Очень долго пьеса в вас прорастает. Вы начинаете осязать свои персонажи чувственно, предполагать, как они поступят в тот или другой момент... Но когда вы понимаете, что они уже ваши и вы с ними, то записать пьесу можно сравнительно быстро. Она пишется на одном дыхании, как теперь говорят, на драйве. Тогда получается. Мою пьесу “Добряки” я написал за шесть дней. Работал по 11 часов в сутки. Был молодой, и меня нельзя было оттащить от стола.
— Бунин, никогда не писавший пьес, гениально определил особенность драматического произведения: пьесы отточенностью форм, крылатостью языка родственны стихам. Вы интуитивно чувствовали это, переходя от стихов к пьесам? Ведь и стихи разваливаются, если плохо сделаны.
— Вы верно считаете: в пьесах много от стихов и особенно от музыки. Не будем говорить о нас, смертных, зато в высших образцах всегда ощущается звон металла.
— В ваших пьесах кипят страсти, сталкиваются и разбиваются судьбы. Если автор сам не любил, не страдал, то и пьеса никого не заденет, не растревожит.
— Я ничем от других молодых южан не отличался. Да еще играл в футбол в юношеской команде. А футбол — дело страстное!
— Вы к тому же еще и шахматист.
— Да, я имел в 13 лет первую шахматную категорию — примерно кандидат в мастера.
— Представляю, какой успех вы имели у девчонок.
— Все было брошено ради литературы. Я был сумасшедший графоман. Исписывал горы бумаги.
— Зрителей, видевших ваши “Покровские ворота”, “Царскую охоту”, “Медную бабушку”, интересует собственный чувственный опыт автора.
— Такой же, как у всех.
— Не поверю. Зорин в литературе ищет свой неповторимый стиль. А вот в любви он, дескать, как все. А у всех — сегодня одна любовь, завтра — другая.
— Конечно, смешно делать моралиста из человека, который прошел школу бакинского стадиона... Но модное теперь раздевание на газетных полосах считаю дурным тоном.
Леонид Генрихович скромничает, а вот его лирические герои видят женщин насквозь. Прекрасным авантюристкам адресуют особые комплименты: “Ну, и женщина! Идешь и качаешься. Каждым взглядом отправляет в нокаут. Словно током, с ног сшибающим током”. Герои, вдохновленные знанием автора, с особым удовольствием принимают женский одухотворенный соблазн: “Ах, серебряные колокольчики светлых лирических героинь — надбытность, поэзия, беззащитность, черт бы вас взял со всей вашей лирикой! А эти контральтовые тембры женщин, рожденных для страсти и смерти, — мороз по коже, сладкая бездна! Но вдруг поймешь, что ни бездны, ни тайны нет и в помине, все на поверку — тонкая игра мизансцен”. В отличие от своих персонажей Леонид Генрихович был счастлив в семейной жизни.
— Пришла любовь, и я женился. Генриетта Григорьевна была театроведом...
Леонид Генрихович подводит меня к большому портрету красивой, обаятельной женщины.
— Генриетта Григорьевна была женщиной совершенно замечательной, человеком глубокого ума, исключительных личных качеств... Через год после первой встречи мы поженились. Она подарила мне сына — оправдание моей жизни. Андрей — известный ученый-филолог. Его мама прошла со мной очень нелегкий путь. Мы прожили с ней 32 года.
— Леонид Генрихович, вы 5 лет вдовствовали. Сполна познали горечь одиночества?
— Иначе и быть не могло. Выручила способность к волевому усилию. Ежедневно — без выходных и отпусков — садиться за стол и работать, работать...
— Шумные премьеры ваших пьес, общение с самыми красивыми женщинами в театре — все это заставляет думать, что свою новую любовь вы встретили на сцене.
— Не угадали. С Татьяной Геннадиевной меня познакомил мой сын Андрей, в то время аспирант Геннадия Николаевича Поспелова, патриарха нашего литературоведения. В свое время в Литературном институте я сам учился у Поспелова. Меня пригласили на его 80-летие. Там я встретил его дочь Татьяну и... погиб! Женился в 61 год.
— На папином торжестве виолончелистка Татьяна музицировала?
— Нет-нет. Такое домашнее музицирование — из другой оперы. Потом, конечно, я бывал на ее концертах. Сейчас она преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных. Педагог она, на мой взгляд, превосходный. У нее замечательные отношения со студентами. Признаюсь, Татьяна Геннадиевна — очень строгий мой критик. Мне повезло — обе мои жены не позволяли себе восторгов по поводу того, что я писал. Они не “писательские” жены. Климат обсуждения всегда был и есть жесткий, даже жестокий, чрезвычайно требовательный. Мне всегда доставалось. Они считали, что я пишу хуже, чем мог бы. Это дисциплинировало меня.
— Но, наверное, и раздражало?
— В первый момент. Но уже минут через 10, когда отойдешь, ничего, кроме благодарности, не испытываешь. Конечно, рядом с такими строгими судьями не расслабишься. Они очень высокие планки устанавливают, и, естественно, соответствовать этим требованиям я не могу. Но стараться должен.
— Андрей Яхонтов мне сказал, что у вас появилась правнучка.
— Внучку Андрея назвали в честь моей жены: она тоже Генриетта Григорьевна.
— Где Андрей Леонидович сейчас профессорствует?
— В РГГУ. К тому же он еще преподает в американских университетах. Его книга “Кормя двуглавого орла” имела весьма широкий отклик. Другая только что вышла в издательстве “НЛО”. Это книга очерков “Где сидит фазан”. Очень горд тем, что он посвятил ее мне.
После разгрома спектакля “Гости” в Театре Ермоловой по пьесе Зорина главного режиссера Андрея Лобанова лишили театра. 29-летний драматург пережил стресс, и у него внезапно обнаружилась тяжелейшая чахотка с кавернами. “...Утром, едва я раскрыл глаза, с изумлением почувствовал в горле какое-то грозное клокотание. Я не успел позвать жену — потоком хлынула алая влага... Настоящее извержение крови...” Беда случилась в воскресенье, за городом. Юрию Трифонову удалось остановить чужую машину. “Меня осторожно погрузили, жена села рядом. Юрий насупился. Можно было легко понять — он не уверен, что я доеду. Да я и сам в это мало верил. Все эти дни смерть была так близко... Я уже понял — она возможна” (“Авансцена”).
— Для властей и официальной критики я был пристрелянной мишенью. Почти ни одна моя пьеса не выходила без скрежета. Своими пьесами я сократил жизнь многим режиссерам. Прежде всего Лобанову. Но и Завадскому, и Рубену Симонову, и Товстоногову.
— Слава Богу, Леонид Генрихович, вы победили свои болезни.
— У меня все-таки было сердце молодого футболиста. В общей сложности болезнь моя меня одолевала пять лет. Три операции перенес. Но вот ничего — сидим и говорим.
— Наверное, там, в одиночестве, вы вновь стали писать стихи.
— Я пишу их всю жизнь.
— Но почему-то не издавали.
— Не издавал, но я их просовывал то в “Зеленые тетради”, то в другие книги и пьесы — своя рука владыка.
— Крепко и терпко сделано. Поэзия — это звук. Сейчас не понимают, что и проза имеет ритм.
— Без ритма вещь получается хаотическая, неоформленная. Я постепенно перешел к прозе и расцениваю это как самый серьезный поступок в моей жизни. Разумеется, люблю диалог. Недавно опубликовал пьесу “Сыщица” в “Современной драматургии”.
— Помню, вы обещали написать комедию.
— Вот я ее и написал. Но театр очень опасен. В нем ты зависишь от посредников. В прозе ты сам отвечаешь за все. Сфальшивил — отвечай. В пьесе ты не все можешь доверить своему герою. Ты должен раствориться абсолютно. Если сам вылезешь — это нехорошо. А в прозе автор может выйти на первый план и говорить от себя. И вот однажды я ушел в прозу. И вновь познал все тяготы жизни новичка. Выяснилось: все, что наработано мною на свою скромную литературную репутацию, ничего этого нет.
— Не соглашусь. Вашу прозу читатель открывает с доверием, которое вы завоевали своей драматургией. О вас хорошо пишут самые знаменитые критики.
— Была сильная статья Дмитрия Быкова и несколько замечательных статей Андрея Немзера, Бенедикта Сарнова.
— В ваших “Зеленых тетрадях” есть тревожная фраза: “...был нацелен на катастрофу”. Сегодняшнее состояние России вы не воспринимаете как катастрофу?
— Оказалось, очень сложно войти в другую формацию. Разумеется, это было необходимо. Я — исторический пессимист, потому что очень уж несовершенен и порочен человек. Я вслед за Алексеем Максимовичем не повторял, что человек — это звучит гордо. На мой взгляд, человек — это звучит горько. За свою долгую жизнь я видел в человеке больше дурного, чем хорошего, и не только у нас, таков он всюду — в Индонезии, в Шри-Ланке, в Соединенных Штатах, в Германии. Благополучная Швеция стоит на первом месте по числу самоубийств. Люди устроены не лучшим образом.
Долго ли будет наша планета вертеться? Не знаю. Перейдем ли мы через XXI век? Не уверен. Когда ружье повешено на стене, оно должно выстрелить. Мы слишком много уничтожили врученного нам. Высшая сила дала нам маленький живой островок во Вселенной. Мы распорядились им плохо. Мы терзаем нашу землю. Она ограблена, изувечена. Ей угрожает парниковый эффект, над ней озоновые дыры. Ядерные запасы когда-нибудь грохнут. Людей бессмысленно и озверело убивают. Вот мой герой и говорит (простите за самоцитату): “Не век, а какая-то скотобойня”.
Страшно, что преступниками становятся даже малолетние дети. И наша история, и телевидение со своими жестокими боевиками приучили детей к ощущению, что жизнь человеческая ничего не стоит. В сочинениях девочки пишут, что хотят стать путанами, а мальчики примеряют профессию киллера. Что же мы сделали с их сознанием?
— Готова почва для прорастания дьявольского семени?
— Игра с дьяволом — это еще игра с самим собой, с тем Аидом, о котором вы сказали и который способен поселиться в каждом.
— Как важно юному существу встретить мудрого и совестливого человека, как встретили вы в молодости Андрея Лобанова.
— Я вблизи видел Горького, Бабеля, многих знаменитых людей. Но никто для меня не стоит рядом с этим человеком. Даже когда он молчал, чувствовалось, что от него исходит холодок бессмертия.
— В среде творческих людей во все времена шла и идет борьба за лидерство. Как вы к этому относитесь и почему не участвуете в ней?
— Я никогда не засорял своей головы такой чепухой. Литература — это не спорт...
— Вы вступаете в свой 80-й год. Чем вы его встречаете?
— Тружусь над новым романом. Хочется довести этот замысел до итоговой точки. Тогда я буду иметь основание произнести собственные стишки: “Моя бурлацкая работа, ты наконец завершена”.