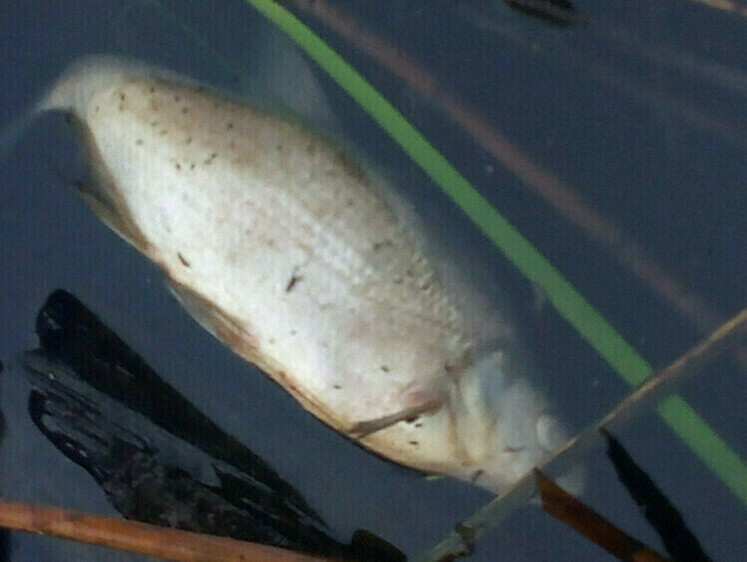Можно долго приводить факты, перебирать статистику, обмениваться мнениями о Великой Отечественной войне. Но, наверное, ничто не даст о ней более достоверного представления, чем рассказ простого солдата. Мы намеренно печатаем его без комментариев.
Читаешь монолог ветерана и понимаешь самое главное. Почему люди, пережившие кровавое пекло 1940-х, всегда говорят: “Лишь бы не было войны!”
Они точно знают, как это было. И их, способных рассказать об этом лично, с каждым годом, увы, все меньше. Рассказывает 82-летний ветеран Николай Пантелеевич Колесников.
Оккупация
Летом 42-го года стали нас эвакуировать. Жили мы тогда в селе Кубраки Воронежской области. Приготовили нас к эвакуации, поехали мы и на немцев наткнулись. Те нам сразу по-своему и говорят, цурюк, мол. Домой идите. Вернулись. Брат мой Митрофан еще до эвакуации куда-то там ходил, и я так понял, что оставили повзрослей ребят пакости немцам делать. У нас еще был такой Гончаренко Семен, военком. Вот он-то и руководил ими.Я по-мелкому вредил. Там чего-то подкручу, еще где. Велели мне веялку отвезти на лошадях. Чтобы зерно наше почище было. Ну, я лошадей запряг, повез. Быстро специально ехал, чтобы, значит, лошади понеслись и веялка перевернулась. Упала она, завалилась. Наши деревенские полицаи меня ругают, даже выпороли. А я чего, говорю, лошади понесли. Я еще помню, немцы выходить из дома запретили по вечерам. Но мы молодые, хочется погулять. И тут два немца идут, с автоматами. И выскакивает такой парень, я знал его. Из Ленинграда, 2,15 ростом. Он их головами друг о дружку стукнул, они упали. А ребята оружие подхватили — и ходу.
Еще наша Клава Резникова листовки распространяла. Так после того, как я веялку поломал, меня наши полицейские взяли. Там дом был такой, охраняемый. Причем в оцеплении почему-то женщины стояли. И вот меня там держали. Полицейские все меня пятый угол отсылали искать. Встанут по углам и бьют, а я в центре. Я как-то не выдержал, закричал. Что вы бьете-то меня?! Все равно красные придут!
Гестапо
А потом, в декабре, по морозу, а он градусов 25 был, погнали в гестапо. Мне мать перед тем передачу принесла. Телогрейку, сапоги. Ну, если меня в Германию угонят, то чтобы была одежда. Тут нас построили полицейские и одежду у меня отобрали. Дескать, зачем она тебе? Били через день. По 25 ударов плетью.И вот как-то, помню, был на допросе, и конюху, слышу, говорят, чтобы окоп очистил. Расстреливать будут. Я розги получил, к нашим вернули, я им и сказал, все, мол, завтра расстреляют.
И нас на следующий день раздели, у кого что оставалось. А у Клавы Резниковой и раздевать-то нечего было. Загнали в машину и повезли. Я же с братом вместе там был. Построили нас перед окопом. Там три полицая было и, по-моему, два немца. Я хотел брата перед смертью обнять, но мне прикладом врезали, и упал я на дно. Вылез, а тут тот парень из Ленинграда, что немцев тогда стукнул, решил побежать. Все равно ведь пропадать. Так его собаки догнали, а немцы после этого даже добивать не стали, так его псы порвали.
А наших всех постреляли. Кроме меня почему-то. Говорят, ну, можешь одежду с них снять. Я говорю: зачем? Брату моему одна пуля в рот попала, другая около подбородка. Привезли обратно и врезали мне 20 плетей. На 5 меньше. И говорят: иди. Куда, спрашиваю. Говорят, домой. А я отказываюсь. Ну не в чем идти. Мороз, я босиком почти. Они спрашивают: кто тебя раздевал? Привели полицаев, у них это строго было. Ну, показал я его. Они ему и велели отдать мне вещи. Он меня по деревне “под штыком” ведет, я ему: что ты делаешь? Ведь меня немцы отпустили.
Пришли к нему. Он пацана своего спрашивает: где мать? У коровы. Зовет ее. Она приходит в моей телогрейке и сапогах. Отдали. И я пошел.
Наши
Если бы наши еще на месяц задержались, всех, кто остался, по новой бы загребли и уже живыми бы не отпустили. А так, лежу я на печи, заходят несколько человек в нашей форме. А полицаи в ней тоже ходили, тут я и вырубился: все, думаю. Но они объяснили, кто они такие. Разведка. Пацаны наши пробежались, вернулись, говорят, немцев нету. И сразу основные части подошли. Проверяли нас особисты. Полицаев привели, спрашивают у нас: наши или нет. Нет, не узнал никого. Наших, оказывается, без нас расстреляли.В армию так набирали. Велели выйти из строя, кто 8 классов закончил, кто 3, кто 1—2. Ну, я говорю, что вроде как 1. И меня назначили 2-м номером пулеметчика. 1-й номер у меня строгий был. Как начали воевать, пошли, так такого навидался. Помню, немцы на высотке, а мы внизу. Немец резать стал из автоматов и минами так, что сутки в воде пролежали. Кто шевельнулся, того сразу. Мне потом медсестра в мензурку, которой, знаете, банки ставят, наливает спирту. В другой руке воду держит, чтобы запить. Я-то непьющий был, мне 17 не было еще. Она объяснила, как пить, как запивать…
Первое ранение
Потом Луговая, Лозовая. Там кишки на деревьях висели, так немец бил. Но самое страшное было под Полтавой. Мы охранение выставили, чтобы немца не проспать. От пэтээровцев (противотанковые ружья), от артиллеристов стояла там сорокапятка, ну и от нас, пулеметчиков, я. Гляжу потом, слева немецкие танки, потом приподнялся — и справа прут. Я стрелять: раз, два — в воздух. Чтобы из наших кто откликнулся. Посмотрел, у сорокапятки нет никого, у пэтээровцев тоже тишина. А у меня устав боевой — пехоту сечь из пулемета. Хороший пулемет, “максим”, не “дегтярев”. “Дегтярев” плохой пулемет был, дерьмо. У меня, как пулеметчиком стал, солдаты старые спрашивали еще: есть спирт в кожухе? Положено зимой наливать или спирт, или масло веретенное. Ну вот, дал я по немцам, по десанту, что на танках. Там расстояния-то было метров 300. Видно же, как они с брони падают. А от сорокапятки нашей кричат: “Кончай стрелять! Тише!” Я понять не могу. Чего тише? Опять стреляю. Тут меня тот, от сорокапятки, свой же и подстрелил. Там немцев не было. Кроме него некому. Ударило меня в бок, сознание потерял. Пришел в себя, уже нет никого. Ну, я замок из пулемета вынул, ленты порезал, винтовочку подхватил, думаю, выбираться надо.Вшей, конечно, было… В одно село пришел, а мне говорят, что на ночлег не пустят. Справку принеси из сельсовета. Там до него идти километра три. Ну, в другой дом постучал. Пустили. Я говорю хозяйке: ты мне соломки постели, грязный я, во вшах. А она велела мне на печку русскую залезть, раздеться. И в печке вещи прожарила. Потом накормила. Я ей говорю: у меня одна была мать, теперь вот вторая.
Дошел до госпиталя. Ну, госбезопасность нас опять проверила. Это уже в Калаче. Тут уж мы стали люди второго сорта. Я и под оккупацией был, и в окружении. Надо было подтверждающего найти, чтобы удостоверил, что ты это ты и не предатель. Потом в Пугачев Саратовской области. Обмундировали — и опять на фронт.
Лопата
Днепр как муравейник был, кто на корыте, кто на бочке, кто голый вообще плывет. Ну, форсировали. Километров 15 плацдарм. И тут опять танки немецкие. Погнали нас как стадо. Стреляли — и то куда-то в ноги. Все мы с винтовками, через Днепр-то ничего тяжелого не попрешь. И тут кричит кто-то, я даже не понял, кто и откуда. Вроде из посадок: “Ложись!” И бум! Бум! Из противотанковых ружей. Подбили какие-то танки. И мы пошли.Кормили плохо. На подножном корму. Кто из населения что подаст. Все вперед шли. Названий деревень уж и не помню. Это артиллеристы долго на месте стоят, а пехота все вперед и вперед. Подходим к деревне, немец начинает зажигать дома. Командир наш: “В атаку!” Люди потом с благодарностью встречают, что не дали деревню спалить. И дальше. Я так скажу. Самое главное для солдата — это лопата. Окопаешься — жив останешься. Потом, помню, 27 октября 1943 года под Белой Церковью стали. Был у нас санинструктор. Герой Советского Союза. Говорит: “Беру тебя санитаром”. Ну, одного принес, он в медсанбате помер, другого тащу. Иного в руку ранят, а он кричит, чтоб его, значит, тащили, а другого в живот, но перевяжут — и он сам добирается. Одного перевязывал, ударило меня. На небо бросило. Лечу и думаю — все. Отца нет, братьев, теперь вот меня. В голову мне осколком попало. Наши мимо идут, смотрят — череп разворочен, считают, мертвый. Но лежу, вроде живой. Кровь течет. Замотался сам.
Встал, а меня как пьяного шатает. Тут слышу: “Колесников, Колесников!” Не вижу ничего, но на голос пошел. А тут лежит наш Герой Советского Союза. Ступни ему оторвало. Обе. Одна только на сухожилиях болтается. Я ему говорю: давай, мол, оторву ее. Она совсем на ерунде держится. Нет, говорит, давай перевяжем. Дотащил его до какого-то дерева. Запомнил дерево, вроде груша. Он мне и говорит: иди на дым или собачий лай. Дошел, смотрю — наш старшина. Наливает мне немецкую крышку от фляжки водки. Селедки дает. Рассказал я ему про санинструктора, где его искать. А сам пошел в наш санбат.
* * *
Потом город Константиновка, несколько раз череп ломали, дальше в Пензу перевезли. А ближе к концу войны приехал представитель Мосметростроя: говорит, строители нужны. Увезли в Москву. И я 44 года в Мосметрострое проработал. Из них 16 лет в шахте, в кессоне. Переломы были, аварии.Мечтал встретить победу в Берлине, но хорошо, живой остался. Вот так я воевал, человек и солдат второго сорта. Почему второго? Так оккупация, окружение. После войны искали начальника нашей полиции Кубрака. Он в Австралии оказался. Так и прожил там жизнь, не отдали его сюда. У меня отец под Смоленском погиб в 42-м, брата Митрофана у меня на глазах расстреляли, брата Федора под Ленинградом убило. Вот такая война у моей семьи вышла.
Полностью рассказ ветерана Колесникова читайте на сайте MK.RU.