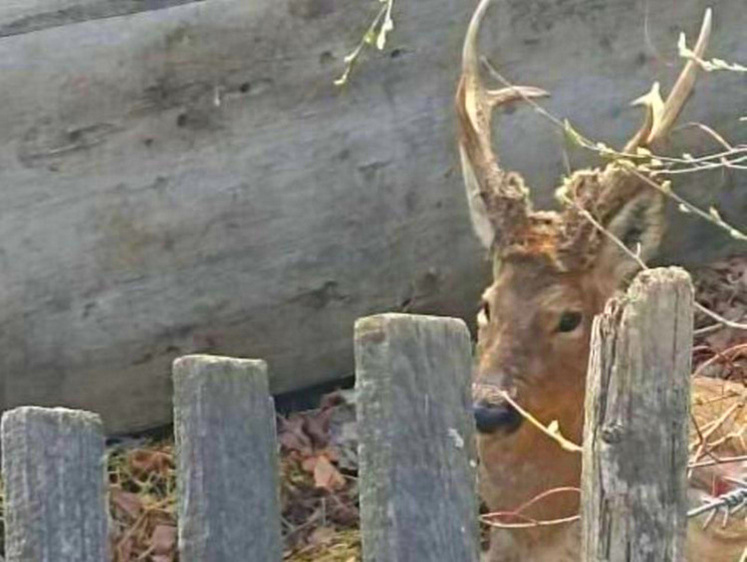Тогда, 40 лет назад, его звездный час вполне мог и не пробить. Щуплый 17-летний паренек, только что сдавший свою первую сессию в Щукинском училище, он бродил по “Мосфильму” в поисках хоть какой-то работы. И совершенно случайно заглянул в комнату съемочной группы “Я шагаю по Москве”. На киношников нескладный юноша тогда особого впечатления не произвел. Так бы и желтела на столе у администратора группы в числе сотен других и его фотокарточка. Если бы однажды она не попала на глаза Георгию Данелии. Едва заметив фотокарточку с жалостливой физиономией, режиссер воскликнул: “Где он? Ведите!” Это был приговор.
А спустя много лет отечественные кинокритики выдадут: “Стеблов изобрел новое амплуа — “советский неврастеник”. Рефлексирующий интеллигент и трогательный романтик в кино, в жизни уже убеленный сединами народный артист России Евгений Стеблов мало отличается от своего экранного образа. Он весь как бы соткан из противоречий. “Я вообще нервный человек, — говорит о себе актер. — Порой очень вспыльчивый. С годами, конечно, устаешь от собственной психованности, понимаешь, что не стоит заводиться. Но...”
— Евгений Юрьевич, говорят, ранняя популярность чаще всего ломает еще не окрепшую психику молодых людей. Как в вашем случае?
— Нет, мне было просто смешно. Дико смешно, когда на тебя все смотрят: на улице, в транспорте. Помню, первое время я даже работал над тем, как бы однажды не расколоться, не рассмеяться. Более того, когда на меня все это обрушилось, даже не уличная популярность, она-то дорогого не стоит, а известность в творческих кругах, что куда больше льстит самолюбию, у меня было странное ощущение. Что все это какая-то случайность, что ошибка скоро раскроется и будут просто бить. Потом привык, а сейчас у меня уже все на автомате. Постоянно подходят люди с просьбами: сфотографироваться, взять автограф, пожать руку, и я уже не думаю, как себя вести. По одному только зрачку человека могу определить, что он сейчас скажет. И что я ему отвечу.
— Однако после нескольких удачных ролей вы попали в больницу и полтора года нигде не играли. Что это было — нервный срыв?
— Действительно, в 23 года я попал в больницу. Но это не связано ни с какой депрессией. Просто нервное истощение от того, что очень много работал. Трудно сказать, что это было. Может, какое-то осложнение после перенесенного гриппа. Вдруг резко подскочило давление, началась жуткая гипертония, которая меня просто изводила. Предполагали серьезные проблемы с сердцем, и меня сразу положили в отделение кардиологии. А потом родственники показали меня академику Касирскому, выдающемуся специалисту. Он сказал, что порок сердца есть, но совсем незначительный, с которым можно жить и жить. А всему виной перенапряжение. Просто накопилась усталость от работы. Которая, в определенном смысле, не прошла до сих пор. Во-первых, я остался подвержен гипертонии. А во-вторых, у меня нет стимула постоянно сниматься, постоянно играть. Я как Подколесин, которому раз за разом предлагают жениться, а он смотрит: как бы в окошко выпрыгнуть.
— Не боитесь, что рано или поздно у вас окончательно пропадет желание и вы попросту перестанете играть?
— Для меня это не станет трагедией. В этом году исполнилось 40 лет не только фильму “Я шагаю по Москве”, но и всей моей творческой деятельности.
— То есть стаж наработали, можно и на покой?
— Не в этом дело. Я ведь не только играю. Я пишу, занимаюсь театральными постановками. Актерство для меня никогда не было самоцелью, а сейчас и подавно. Целью для меня всегда является какая-то проблема, чаще всего духовная, которая в данный момент волнует. А средства выражения, которыми я эту проблему раскрою, могут быть какими угодно: режиссура, книга, роль...
— В кино вы чаще всего играли людей интеллигентных, мягких, скромных и очень доверчивых. Экранный образ соответствует действительности?
— В общем-то да. Я человек доверчивый. Но это не значит, что глупый. И не такой простой, как могу кому-то показаться. На меня где сядешь, там и слезешь — я никогда не проигрывал.
— Жизнь воспринимаете как постоянную борьбу?
— Нет, я абсолютно открыт. Но когда чувствую, что человек, с которым общаюсь, переходит некую грань и становится неделикатным, вынужден ставить его на место.
— Каким образом?
— Очень мягко, но определенно. Поэтому у некоторых и возникает ощущение: ах, какая он сволочь! Кажется таким наивным человеком, а на самом-то деле... Вот, например, я в очень хороших отношениях с Василием Васильевичем Смысловым. А он человек, который, образно говоря, устремлен в звездное небо. Может стоять в луже и не замечать этого. Но это не значит, что он не в состоянии дать сеанс одновременной игры на двадцати досках. Вот и я такого типа человек. Если я доверчив, это не говорит о том, что я слеп. Когда человек начинает злоупотреблять моей доверчивостью, я просто расставляю акценты.
— Вашего давнего друга Никиту Михалкова тоже приходилось ставить на место?
— Так мы с ним и подружились после одной из наших ссор. Никита вообще очень активный человек, стремящийся в какой-то степени поработить своих друзей, партнеров. А я человек хоть и очень контактный, но никогда не теряющий собственной суверенности. Никита еще тогда часто рассуждал о родине, о России. Так вот: на съемках фильма “Перекличка”, где мы играли танкистов, у нас с Никитой разгорелся спор на тему подвига. Он утверждал, что подвиг — это сознательный поступок. А я считал, что человек совершает подвиг неосознанно, а по своему предназначению. Ну я ему в сердцах и сказал: “Что ты вообще понимаешь? Ты в аквариуме вырос, жизни не знаешь”. Словами настолько прижал Никиту к стенке, что он мне хотел уже двинуть. Тут нас остановили. Я пошел в номер, а утром во дворе гостиницы он сам ко мне подошел и говорит: “Давай дружить”. Знаете, как дети в первом классе говорят друг другу. И началась наша дружба.
— Получается, на съемках фильма “Я шагаю по Москве” вы друзьями не стали.
— Скорее, были товарищами. Общались, ходили друг к другу в гости. Больше я к нему, чем он ко мне. У Никиты все-таки было поинтереснее. А ко мне в коммуналку он больше как на экскурсию ходил. И, как выяснилось, не зря. Когда посмотрел его “Пять вечеров”, помню, я жене сказал: “Вот он выразил то, что должен был показать я. Потому что для него это — чужое, а для меня — родное. Но я поленился, а он это сделал”. Коммуналку-то Никита видел, по-моему, только у меня, да еще у Сережи Никоненко, у которого какое-то время жил, расставшись со своей первой женой Настей Вертинской.
— Про Михалкова говорят, что уж если он друг — то друг, а враг — так враг. Хорошо, наверное, иметь в друзьях такого человека, как Михалков?
— Не знаю. У меня с ним свои отношения, пик которых пришелся на молодость. Встречаемся-то редко: в основном по каким-то поводам — печальным или радостным. Но и сейчас чужими людьми нас не назовешь. Эмоционально мы очень близки, понимаем друг друга без слов. Иной раз можем посмотреть друг другу в глаза и расплакаться. Но это не значит, что мы всегда заодно. Часто занимаем совершенно противоположные позиции. Если нас сравнивать, я всегда был более депрессивным, неуравновешенным, но, наверное, более глубоким человеком. Тогда. А может быть, и сейчас. Его талант — широкого мазка: яркий, мощный, масштабный. А мое дарование — глубже, я люблю тонкую вязь. Тоже умею маслом работать, но мне это неинтересно. Мое — это графика, пастель...
— Но Михалков ведь тоже разный...
— Я сейчас говорю свое мнение. Я же не сказал, что он человек неглубокий, — сказал, что я глубже. Мы как работали: я давал суть, а он уже облекал это в форму. Никита вообще очень трудоспособный человек. Он может собраться, сесть и писать, писать, писать. Пусть ничего не получается, все равно — сидеть и писать. А я другой, импульсивный: если не идет, то вроде как и нечего сидеть.
— Ваше с Михалковым эмоциональное родство однажды чуть не переросло в родство сугубо официальное. Ведь по молодости лет вы оба ухаживали за сестрами Вертинскими: он — за Анастасией, вы — за Марианной. Так?
— Не совсем. Моя влюбленность в Машу была чисто платонической. Да, мы постоянно вместе играли в студенческих постановках, у нас были чудесные, милые отношения. Но в нее влюблен был не только я — чуть ли не весь курс. Причем с распределением обязанностей: я и Виктор Зозулин, ныне народный артист, провожали Машу до дома, а Толя Васильев и Боря Хмельницкий водили ее в кафе-мороженое.
— В итоге повезло Хмельницкому.
— Да, но это потом. А тогда я в Машу был по-настоящему влюблен. Ей в общем-то и посвятил картину “До свидания, мальчики!”. Мысленно я играл с Вертинской, а не со своей партнершей — Наташей Богуновой, тогда еще 15-летним ребенком. Но у Маши были романы с другими.
— Ревновали?
— Дело в том, что на курсе я был самым младшим. Всем ребятам уже по 18, а мне только 16. И, конечно, нашим девочкам я казался всего лишь мальчишкой. Они относились ко мне с симпатией, но не как к зрелому мужчине. Да и мои чувства к Маше нельзя было назвать любовью. Тогда я еще никого не любил. Именно влюбленность. А вот Никита в Настю был влюблен серьезно и действительно хотел на ней жениться. Его соперником был Андрей Миронов. Но выиграл Никита.
— Говорят, между мужчиной и женщиной дружба невозможна. Мне кажется, вы исключение из этого правила — умеете дружить с женщинами. Это так?
— У меня милейшие отношения с Ирой Муравьевой, Олей Остроумовой, Инной Чуриковой... Я как-то умею их понять. И они мне в чем-то доверяют. Да, я умею дружить с женщинами. Главное правило — женщину всегда надо оценить. Если она не почувствует симпатии с твоей стороны, то и общаться с тобой не станет. Дело в том, чтобы такие отношения не перешли за пределы чисто дружеских. Что неизбежно приведет к разочарованию.
— И часто вам в молодости приходилось разочаровываться в женщинах?
— Не очень. У меня были какие-то любовницы, но не так много. До свадьбы я никого не любил. Влюблялся — да, но не любил. И был настоящим виртуозом по части того, что называлось “крутить динамо”. Мог довести женщину до полуистерического состояния. Но в последний момент меня всегда что-то останавливало. Какой-то страх, инстинкт самосохранения... А вообще до 26 лет, когда я женился, свои отношения с женщинами я в шутку делил на три категории. Первая — это женщина-любовница. Вторая — женщина-трость. То есть женщина для прогулок, интеллектуальных бесед. И третья — поиск любви, чего-то настоящего.
— Свою будущую жену Татьяну в какую категорию сперва записали?
— Первое впечатление — она мне показалась очень красивой. И понравилась сразу. Сначала у нас были скорее дружеские отношения, которые впоследствии переросли в любовь. Понял, что без Тани уже не могу.
— Ваш сын Сергей, насколько мне известно, начинающий режиссер и работает в “ТриТэ” у Михалкова...
— Нет, он уже там не работает.
— А я-то думал: пристроили к другу — значит, всерьез и надолго.
— Ну что значит пристроил? С сыном у меня на редкость хорошие отношения. Он мой соратник. Сережа закончил актерский факультет, но актерство для него не главное. Еще будучи студентом, он решил, что в театре работать не будет. Но в Сереже много разных ипостасей: он уже снял одну короткометражку, пишет сценарии... Даже был момент, когда в семинарию хотел уйти.
— У него в жизни тогда был какой-то переломный момент?
— Бог его знает. Вы знаете, есть вещи, с которыми ну нельзя человеку в душу лезть. Если он меня хочет спросить, если он меня вопрошает, я ему отвечу. А зачем в душу-то лезть? Это неправильно, понимаете? По-христиански неправильно. Мы с женой Сережу всегда поддерживаем, но его личная жизнь — это только его личная жизнь.
— Евгений Юрьевич, вы, насколько я знаю, потомственный дворянин...
— По папиной линии.
— Долгое время являлись членом партии...
— Я был заместителем секретаря партийной организации Театра Моссовета по идеологии в течение десяти лет.
— Да. И при этом вы крещеный, глубоко верующий христианин. Как все это может сочетаться в одном человеке?
— Религиозным человеком я родился. Просто до поры не знал об этом. А к пониманию своего верования пришел вполне традиционным для советской интеллигенции путем. Сначала какой-то космизм появился в сознании, я читал литературу по парапсихологии. Потом — интерес к восточным религиозным направлениям. А когда пришел к христианству, я тайным образом окрестился. Вместе с женой.
— Будучи при этом партийным?
— Да. Через знакомых договорился, что нас покрестят без паспортов. Надел темные очки, чтобы никто не узнал, и покрестился в церкви в Сокольниках. Почему тайно? Да я знал эту систему. Сразу бы поступили данные в райком, в МВД.
— Получается, двум богам служили?
— Нет. Вера истинная есть одна. Для меня это — христианство. Все остальное — идеология. Которую я еще до конца и не разделял. Да что, я один, что ли, господи? У нас почти все артисты тогда в партии состояли. При чем тут вера? Христос сказал: “Отдавайте Богу богово, а кесарю — кесарево”. Все, Христос ответил за нас. А мы только поражаемся гениальности его.
— То есть душевным самокопаниям по этой части вы не подвержены?
— А какие копания?! Коммунисты же меня не приглашали участвовать в церковном погроме. Позвали бы — отказался... Я ведь как в партию вступил. Это же целая история. Во-первых, со стороны властей я тогда почувствовал некоторое пренебрежение. Вышел фильм “До свидания, мальчики!” — кладут на полку. “Урок литературы”, сценарий которого был написан Данелией и Токаревой специально на меня, но — 68-й год, чехословацкие события — и снова на полку. И тогда я сознательно ушел в некую жанровость. Сказать попросту — в шутовство. А во-вторых, я только перешел в Театр им. Моссовета. Меня там замечательно приняли, представили Завадскому. Я попал в число любимчиков Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф, которая была его правой рукой в театре. Первым ее фаворитом был Геннадий Бортников, вторым — Вадим Бероев, а я как бы занял в этой иерархии третье место. И оттого был неприкасаем. Никакие интриги меня не касались. А когда Ирина Сергеевна внезапно умерла, я вдруг ощутил вокруг себя все это варево, интриги... К тому же тогда и с директором театра Лосевым были испорчены отношения. Он хотел меня сделать комсоргом, а я отказался, да еще и резко ответил — отношения стали натянутыми. И я такой ход конем сделал: пришел к нему и попросил рекомендацию на вступление в партию. Этим, во-первых, я нейтрализовал его самого. Во-вторых, уже никто не мог мне и слова сказать. Наш парторг — народный артист Георгий Слабиняк — до того, как я вступил в партию, мог подойти и вешать мне на уши какую-то псевдопартийную лапшу. А теперь после его слов я мог сделать паузу, а потом спросить: “А вы думаете, партия от нас этого требует?” И он тут же пугался. Партийный человек и известный человек — это положение гораздо более привилегированное. Два плюса.
— Вот вы, оказывается, какой конъюнктурщик.
— Никакой конъюнктуры — это стратегия. Просто я понимал, что бороться с этой системой бессмысленно. Да и несвойственно моей натуре. Но размывать партию изнутри — вполне реально. Своим присутствием. И на своем достаточно маленьком уровне мне удавалось иногда что-то смикшировать, кого-то защитить.
— Вышли из партии, поняв, что размыли ее окончательно?
— Ушел я в 90-м, после вильнюсских событий. Просто включил телевизор, лег на диван и вышел из партии.
— Приняв христианство, вы стали другим человеком?
— Конечно. Это совершенно иное сознание. Ну что я вам буду евангельские истины перечислять? Терпимее становишься, позитивнее. Раскаяние раньше приходит. Чувствуешь, что виноват — исповедуешься. А осознание собственного греха спасает.
— На подлость уже не способны?
— Вы же у меня интервью берете, а не я у вас на исповеди. Кто знает, кто на что способен? Если бы я сказал, что на подлость не способен, — это гордыня. Что уже грех.
— Принято считать, что лицедейство — изначально порочное ремесло.
— Нет, это заблуждение. Важно, ради чего ты этим занимаешься. Если просто из-за того, что тебе так хочется, — тогда можно и в грех впасть. А вот если ты делаешь это, есть такое выражение, ради Бога, все будет нормально.