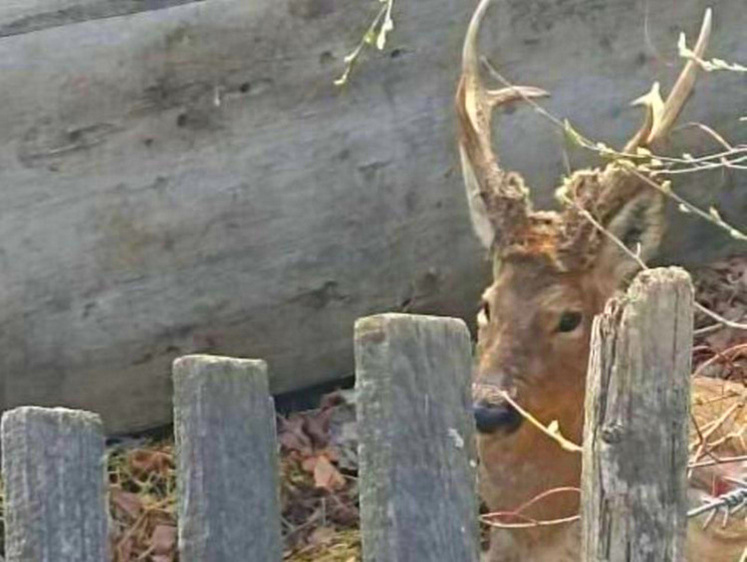...Сердце Массимо бешено колотилось, дыхания не хватало. Вместе с другими солдатами-итальянцами Массимо уже почти час бежал со всех ног через снежное поле, словно загнанный заяц, к ближайшему перелеску в надежде на спасение. Но и русские не отставали...
Внезапно левая нога странно дернулась, тут же стало как-то неприятно во рту, будто в него насыпали соленой пыли. Пытаясь бороться с рвотными спазмами, он наклонился и увидел, что снег вокруг стал густо-алым. Совсем как красные апельсины, что растут только на его родной Сицилии.
Массимо почувствовал, как его тело обволакивает странное тепло, тягучее и липкое, как жженый сахар. Ему показалось, что он снова дома, там, где всегда жарко, а знойные черноволосые девушки пахнут магнолиями, пряностями и морем...
Одна из них протянула Массимо красный апельсин. Он попытался взять его, но апельсин вдруг стал стремительно расти прямо на глазах. Массимо отпрянул и с ужасом понял, что красный шар уже обхватил его со всех сторон и вот-вот сожрет окончательно. Из последних сил он поднял голову и увидел через маленькую щель в кожуре кусочек неба. “Это конец”, — отчего-то спокойно подумал он. В этот момент щель захлопнулась, и стало совсем темно. Массимо потерял сознание и упал лицом в снег, красный от крови.
“Эй, макароны, хенде хох!” — Массимо открыл глаза. На корточках прямо перед ним сидел молодой курносый боец. “Хенде хох!” — повторил солдат, жестами показывая подняться. Массимо попытался встать на ноги, но боль тысячами мелких иголок вонзилась в мозг. Он застонал, схватился за ногу и упал снова. Солдат стянул с Массимо сапог, присвистнул и начал что-то говорить другому бойцу, видимо, старшему по званию. Тот передернул затвор автомата. “Ненавижу!..” — насколько мог громко по-русски полупрошипел Массимо... и снова провалился в темноту.
* * *
Синьор Массимо Агосто, в прошлом известный в Италии юрист, а ныне пенсионер, напряженно вглядывается в листок бумаги, на котором отксерокопирован советский Декрет о земле. Он хочет перевести его на итальянский в помощь своим соотечественникам-юристам. Но без помощника это сделать сложно. И дело даже не в языке — русским 85-летний синьор Агосто владеет отлично. Просто глаза уже не те, трудно разбирать мелкий шрифт.
— Не понимаю: “...начиная от демократически организованных бессловных сельских и городских общин…” Почему “бессловных”? Посмотри-ка.
— Бессословных, — поправляю я, — просто копия плохая, край строчки зажевался.
— Бессословных... Это как?
— Это от слова “сословие”.
Пока он копается в словаре, я откровенно скучаю. За окном по- весеннему звонко шумят Патриаршие пруды, молодежь бренчит на гитаре, а на кухне жарит блинчики домработница Галина.
— Баста на сегодня, устал я уже, совсем старый стал Максим... Ну, пошли есть блины. Галя, доставай икру! Обожаю их, ням-ням! — пытается шутить синьор Агосто, смешно хлопая себя по щекам.
Отчего-то он очень любит рассказывать о себе в третьем лице и произносить свое имя на русский манер: “Максим поел”, “Максим позвонил”, “Максим — дырявая голова”. Однажды Агосто, будучи в бодром расположении духа, обозвал себя “старый перец Максим”.
Я удивилась: откуда такие познания в русском молодежном сленге? Тема перца тут же получила неожиданное продолжение. Максим необычайно оживился и начал пытать меня на предмет знания итальянских слов, обозначающих физическую близость. Тщательно подбирая выражения, я начала перечислять: фаре л’аморе, скоппаре, скьяваре... Но дед оказался тем еще “перцем”:
— Это все ерунда, мы, итальянцы, после ночи, проведенной с женщиной, говорим: “О метто мио пеперончино нель ачето” (дословно: “Я помочил свой перчик в уксусе”. — Итал., М.Л.), — эту фразу синьор Агосто буквально пропел и, довольный собой, захихикал в кулачок. Совсем как нашкодивший школьник.
— К нему вчера опять Эта приезжала... — шепотом пояснила домработница Галина, — они, значит, в комнате заперлись и долго не выходили... Поздно вечером Эта отчалила восвояси, а дед потом стонал полночи — давление поднялось.
— Галя, а кто такая “Эта”?
— Да любовница его, на 40 лет моложе. Ведь уж старый совсем, песок из него сыплется, а все туда же. Вот скажи, ну зачем ему баба в таком возрасте? Лучше бы о здоровье своем подумал! —возмущалась Галина. — Одно слово, итальяшка, они там все кобели.
* * *
Честно говоря, на Казанову Массимо Агосто не тянет. По крайней мере с виду. Эдакий чудесный улыбчивый дедуля с седым пухом на голове, маленький и какой-то очень трогательный — такие старики всегда вызывают умиление. Галина метко окрестила его “Одуванчик”. Однако когда речь заходит о слабом поле, Одуванчик преображается — грудь расправляется, пух на голове приобретает упорядоченный вид, а подбородок горделиво “выезжает” вперед. О женщинах он может говорить часами. Любимую тему Одуванчик всегда заканчивает историей, которую за время нашего недолгого знакомства я слышала уже много раз. Вспоминая этот эпизод из военной молодости, Массимо почему-то всегда начинает плакать.
— Наша часть тогда стояла в одном украинском селе. Где-то была война, но мы, итальянцы, о ней и не вспоминали — нас куда больше волновали амурные страсти. Я тоже приглядел себе одну, Марусю. Ух и хороша ж была дивчина! Красивая, статная, а какая страстная! — на этом моменте Максим делает паузу и смотрит в одну точку. Его глаза становятся влажными, а дальнейшее повествование сбивчивым. — Однажды мы пошли гулять в лес с Марусей и ее собакой. Она... мне... я постелил шинель на траву... Нам все время мешала собака, которая пыталась вытянуть из-под нас шинель... Я никогда не забуду... Маруся мне снится до сих пор... Как она там сейчас, бедняжка? Жива ли? Наверное, болеет... — по лицу Максима катятся слезы. — Я учил ее итальянским словам, а она все спрашивала: “Ты за мной вернешься и увезешь в свою Италию?” “Конечно, аморе мио! — отвечал я. — Как только мы выиграем эту войну, я вернусь за тобой, и мы вместе уедем на Сицилию!” Маруся клала мне голову на грудь и засыпала — мы всегда засыпали обнявшись. Верил ли я, что вернусь за ней? Конечно, нет, ведь я уже четыре года как был женат на моей Лауре... — старика начинают сотрясать беззвучные рыдания.
Где сейчас та Маруся и догадывается ли она, что уже 60 лет приходит в снах к итальянцу, с которым предавалась любви на шинели в лесу?
Массимо Агосто обожает Россию. Он любит ее даже больше, чем многие из тех, кого называют ее патриотами. Он не представляет себе жизни без нее, поэтому каждый год по нескольку месяцев проводит в Москве — уверяет, что ему тут “легче дышится”.
— Знаешь, синьорина Маша, я благодарен судьбе за все то, что со мной произошло, иначе бы я никогда не понял, какая у вас прекрасная страна и замечательные люди. Жизнь преподнесла мне суровый урок — я едва не остался без ноги, чуть не умер в плену... Шесть лет! О дио мио (О мой бог. — авт.), шесть долгих лет я провел в лагерях! — сложив ладони в молебный жест, Максим откидывается на спинку кресла. — Думаешь, я жалуюсь? Это может показаться странным, но я считаю эти годы одними из лучших в моей жизни.
* * *
...Когда один из советских бойцов передернул затвор автомата, Массимо попрощался с жизнью. Уже второй раз за пару часов.
— Мне хотелось выть от боли и беспомощности. Бессилие рождает ненависть, и я в ту минуту отчетливо возненавидел войну, а заодно и всех, кто в ней замешан, — немцев, русских, Муссолини, который отправил нас на фронт в картонных ботинках. Они разваливались на ходу, и мы воевали буквально босиком.
...Массимо очнулся в лазарете. Очень хотелось пить, а пульсирующая боль в ноге отдавала в затылок. Предчувствуя недоброе, Массимо приподнялся на кровати — обе ноги, к счастью, были на месте. Другой итальянец, немного владеющий русским, перевел ему, что врачи подумывали об ампутации, но пожалели, и, кроме того, в ноге у Массимо остался осколок. Так как Массимо потерял много крови и был очень слаб, доктора решили его не вытаскивать — подобной операции раненый мог и не выдержать. Однако через некоторое время нога начала гноиться. Консилиум докторов вновь постановил: ампутировать выше колена. И тут судьба подарила Массимо еще один шанс. В таких случаях говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло: Агосто тяжело заболел воспалением легких. Ампутацию отложили на пару дней: авось выкарабкается. И он выкарабкался. Пневмония отступила, да и нога вдруг начала заживать. Осколок так в ней и остался. Правда, в 70-е его хотели удалить итальянские доктора, но Агосто отказался. Одуванчик уверяет, что осколок как будто стал частью его плоти. О его существовании напоминает лишь легкая хромота и... рамки-металлоискатели в аэропортах.
— Теперь когда я прохожу контроль, то всегда звеню, — улыбается Максим. — И я всем объясняю, что это моя самая дорогая “награда” из России и я не намерен с ней расставаться.
* * *
Удивительно, но Одуванчик рассказывает о тяжелых лагерных буднях с какой-то неуместной теплотой.
— После того как я поправился, меня и еще несколько десятков итальянцев отправили в концлагерь. 200 километров мы ехали на поезде почти две недели. Февраль, стояли 20-градусные морозы, а в вагонах не было ничего, кроме наваленной на пол соломы, на которой все спали, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. По дороге половина пленных умерла. Трупы мы стаскивали в середину вагона и клали кучкой, чтобы освободить побольше места —было очень тесно. Во время остановок кучки периодически разбирали... Иногда нас выпускали под конвоем за снегом — его мы потом растапливали в котелке, так и грелись... — Максим смотрит сквозь меня и улыбается чему-то своему. Я пытаюсь понять, что в этом рассказе вызывает его улыбку, но не могу.
— Кормили скудно — постные щи, жидкий компот, но лучшего никто и не смел желать, — негромко продолжает Одуванчик, — иногда на станциях местные жители приносили нам фрукты и овощи, в основном капусту. Тогда я впервые серьезно задумался: а против кого мы воевали? Против этих людей, которые, отнимая у себя последние куски, несли их нам, пленным врагам? Всю лишнюю еду, правда, отбирали конвоиры. Я их понимаю, нас не за что было жалеть, ведь никто нас на вашу землю не звал...
Так Массимо Агосто попал в Тамбовскую область. В первые годы войны там был лагерь для советских военнопленных, но, когда немцев погнали на запад, оставшиеся землянки быстро приспособили для пленных армии вермахта и их союзников. В этом “мрачном подземелье”, как называет его Максим, он просидел почти два года. Жил в землянках вместе с другими итальянцами, немцами, румынами, венграми. Валил лес, грузил вагоны.
— От болезней пленные в первые месяцы умирали ежедневно, — вспоминает Максим, — их хоронили в землянках. Когда землянка набивалась трупами, ее заколачивали и присыпали землей. Правда, летом тела все же перезахоронили в братских могилах, которые мы рыли сами.
В 1946 году Массимо Агосто перевели в другой лагерь, на юге России. Условия там были куда лучше: тепло, много солнца, фруктов и овощей. Тогда пленные наконец-то воспряли духом — война к тому времени закончилась, и людям опять захотелось почувствовать себя, как в мирной жизни. Эту жизнь устраивали как могли: читали книги на русском, столярничали, рисовали картины, некоторые даже вышивали, устраивали вечера самодеятельности — ставили спектакли по русской прозе. Именно там Массимо впервые познакомился с творчеством наших классиков. Ему доверили роль режиссера лагерного театрального кружка.
Он вернулся на родину в 1949-м. Встретился после долгой разлуки с женой, родил двух сыновей, поступил в университет. Но он уже не мог жить без России. Массимо возвращается в нее снова и снова.
— Думаю перебраться в Москву насовсем. Дети вроде не возражают. А что? Куплю квартиру, посажу на постоянное жалованье Галину и буду каждый день есть блины с икрой. По-моему, неплохая мысль, как считаешь?
СПРАВКА "МК"
Италия, воевавшая во время Второй мировой войны на стороне Германии, потеряла в ходе военной кампании от 400 до 500 тысяч жизней. Многие из итальянских солдат (по некоторым данным, от 30 до 60 тысяч человек) умерли в плену на территории бывшего СССР.