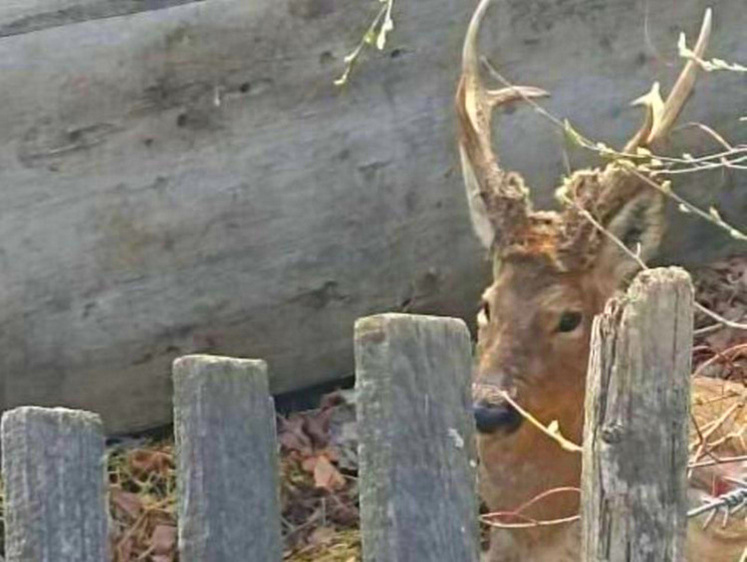За эти дни он стал мне почти как родной. С мамой по телефону столько не разговариваю. Каждое утро: “Нет, нет… Ну попробуйте, позвоните мне в восемь вечера”.
Каждый вечер: “Вы знаете, я все-таки передумал. Ну и что, что 70. Мне не о чем говорить, за последний год в театре я ничего не сделал. Нет, нет, и еще раз нет!” И так до бесконечности…
Валентин Гафт. Глыба, скала, эпоха. Отдельная планета. Актерище. Сотканный из противоречий, сложный, неудобный, неожиданный человек. Но даже такой камень капля точит. Последним моим аргументом стало: “Вы Валентин Иосифович, а я Дмитрий Иосифович, может, таки договоримся?” Как ни странно, подействовало.
— Вы сказали, что за последний год в театре ничего не сделали. Эта мысль не дает вам покоя?
— Да нет. С чего вы взяли?
— Голос у вас не слишком бодрый.
— Нет, ну последний год я мало работал просто потому, что плохо себя чувствовал. Сейчас вроде все нормально — думаю, пошло на поправку. В начале сезона явлюсь на сбор труппы, ну а там как пойдет…
Григорий Горин: “Гафт — это даже не фамилия, а диагноз. Особое состояние организма, когда нервы обнажены и гонят через себя кровь, слова, мысли...”
— Какой диагноз сами себе поставите?
— Ну не знаю, мне трудно. Если бы я был врач, я бы поставил себе диагноз. Медицинский. Мог бы это сделать и делаю часто. Правда, ошибаюсь.
— Но с возрастом замечаете перемены в характере?
— Конечно, конечно.
— Раздражительность накапливается, усталость?
— Вероятно. Да, я часто бываю раздражительным и уставшим, может быть. Как каждый человек. Это связано со многими вещами в жизни… А вам кажется, что я все время раздражительный и уставший?
— Не мне — другие говорят.
— Глупости говорят. Но пусть говорят. “Каждый пишет, как он дышит…” Сейчас, может быть, раздраженный. Эти дни, перед юбилеем... Не потому что я такой скромный человек, просто не люблю все эти торжества.
— Почему? Все вас поздравляют, все любят.
— Вот это и очень плохо. Утомляет сильно. Потом, излишнее проявление любви человека иногда дезориентирует. На самом деле это не так. Еще, не дай бог, поверишь…
— От общения сильно устаете?
— Нет, я мало общаюсь, почти ни с кем не встречаюсь. Это сейчас только какая-то волна…
— И хочется тишины?
— Хорошо чередовать тишину и общение. Все время в грохоте жить невозможно. Нужна тишина, нужна лень, уединение. Нужно, чтобы что-то само отпало, а новое родилось. Оно ведь рождается беззвучно, бесслышно.
— Но есть человек, с которым могли бы говорить 16 часов в сутки?
— Такого нет сейчас. Но у меня интересный дом, у меня интересная жена…
— Так я о ней и говорю.
— Да, интересная жена, которая все понимает, все чувствует. Но это не значит, что обязательно нужно болтать, можно даже находиться в разных комнатах, но ощущение, что рядом с тобой близкий понимающий человек — неважно: молчит он или разговаривает…
— А появляется в вас что-то, что пугает?
— Пугает, когда становится что-то не интересно. Когда появляется леность, безразличие. Когда перестаешь любить очень многие вещи, когда становишься равнодушен. Вот это не дай бог. Тогда просто жить не надо… Ну да, я стал менее общительным, это есть. Боюсь обижать людей. Допустим, я писал какие-то эпиграммы, которые кого-то задевали. Хотя я это делал для радости окружающих, никогда не со злости. Понимаете, сейчас мне обижать никого не хочется.
— Тоже неплохо — умиротворение кипучей натуры. А может, это старость?
— Да, наверное, скорее всего это старость.
— Серьезно? Вы ощущаете себя стариком?
— Иногда я чувствую, что уже потерял энергию, которая была в молодости. Обидно очень.
— Это обидно. Но приходит что-то другое. Мудрость, например.
— Не знаю, мудрость вряд ли. Мне хотелось бы иметь то, что я имел раньше. Да, все проходит. Но я смотрю на своего друга Олега Палыча Табакова, и он для меня пример. Мало изменившийся человек: не потерял ни жизнерадостности, ни жизнелюбия, ни энергии, ни желания работать. И такие примеры вдохновляют. Меня потрясает Зельдин, который в свои 90 лет играет и поет, как молодой. Это вообще уникальное явление. Миша Козаков, который в 70 с лишним…
— Женится и разводится?
— …Пишет огромное количество стихов, ставит, снимает… Да, и любит.
— Чего же вам не хватает, чтобы так же наслаждаться жизнью?
— Запаса энергии. Природа дала меньше. Но вообще у меня сейчас наступает новый период — старость, вот и посмотрим на практике, что это такое.
Галина Волчек: “В театре одни Гафта любят безоговорочно, другие — с оговорками. Валя может правду сказать в глаза. Он — из тех, кого называют совестью коллектива”.
— Мне не обязательно об этом знать, я в театр прихожу не за этим. Для меня есть партнеры и есть работа. И отношение только к тому, что ты делаешь. В театре дело все определяет.
— Как считаете, за что вас можно любить?
— Я вообще не считаю. Это дело тех, кто любит или не любит. Я не делаю ничего специально для того, чтобы меня полюбили. Стараться не надо.
— А ненавидеть есть за что?
— (Смеется.) Наверное, есть. У людей надо спросить. А вообще лучше не спрашивать. Было бы обидно знать, что тебя ненавидят. Ненавидеть! За что?! В молодости это, наверное, возможно. Если связано с отношениями между мужчиной и женщиной. Когда от любви до ненависти один шаг. Когда один другого не может простить. Когда швыряет из стороны в сторону. Когда влюбляешься каждый день. В кого-то.
— Говорите: “обидно, когда ненавидят”. Вы — высокий во всех смыслах человек. Ну и плевать, что какой-то пигмей вас ненавидит.
— Нет, ну начинаешь думать, что ты совершил какой-то отвратительный поступок. Если ненавидят со зла, с зависти — ну это, как говорится, в душу другого человека не влезешь. Ну есть такие люди. Я вот никому никогда не завидовал, хотя восхищаюсь многими, думаю: “А я так не умею”. И вот тогда появляется какая-то зависть.
— Но бывает зависть не только белая, но и черная…
— Черной не бывает. У меня не бывает.
— А как насчет “правды в глаза”?
— Есть такое. Ну что значит правда? С точки зрения моей — это правда, с другой точки зрения — это неправда. Это жизнь. Когда что-то терпишь, что-то накапливается, что-то носишь, что-то хочешь высказать, добиться чего-то. Тогда не выдерживаешь.
— Это зуд какой-то душевный: не могу смолчать?
— Ни в коем случае. Я не люблю людей, которые ходят, правду-матку рубят сплеча. На каждом шагу, каждые две минуты. Это смешные странные люди. Так нельзя. Потому что не все похожи на тебя, и ты не похож на других. Не нравится — можешь уйти.
— Ну вот, Валентин Иосифович, а говорите — мудрости не накопили.
— Ну может быть. Терпимым надо быть, жизнь этому учит. А в театре — так просто необходимо.
— Ну да: в этом террариуме единомышленников, в этой банке с пауками.
— Да, это есть. Но мне кажется, жить в театре с таким настроением невозможно. Нельзя не любить и делать вид, что любишь. И целоваться, подобно Иуде. Но и всех объять, полюбить тоже невозможно. Полюбить — это значит познать. Познать не так легко. Иногда о человеке думаешь одно, а потом кусаешь себе локти: как ты ошибался. И наоборот.
— Это сейчас вы так говорите. А прежде много врагов успели нажить?
— Нет, потому что у меня никогда не было настоящей злости, ненависти. У меня нет этого вообще в характере.
— Может, вы так думаете?..
— Я так не думаю, я это знаю.
Лия Ахеджакова: “Валя — человек крайностей. Иногда он бывает абсолютный ребенок, а часто — злой мальчик. Он по-настоящему благородный и мужественный человек, но у него бывают такие взрывы бешенства! Он бывает очень несправедлив”.
— Ну, я не согласен с Лией Ахеджаковой. Лия Ахеджакова — безумно талантливый человек. У нее очень развита фантазия, поэтому она может себе нафантазировать такие вещи про меня. Это слишком много, сложно и в значительной степени неправда. Но талантливо.
— А как насчет ваших эпиграмм? Есть очень злые.
— Может быть. Хотя я считаю, что так говорить несправедливо. Это определенный жанр — если они не острые, то это не эпиграмма, а просто чепуха.
— Но вы, например, обиделись на известное двустишие Михаила Рощина: “У Гафта нет ума ни грамма. Весь ум ушел на эпиграммы”?
— Не-е-ет, ну что вы. Абсолютно. Нельзя буквально все понимать. Тем более, я знаю, как Рощин ко мне относится. Он меня очень, смею сказать, любит. А как эпиграмма — она хороша.
— В Интернете нашел такую: “Ирине Мирошниченко. В конском черепе у дамы раздалось змеи шипенье. Ну а “Кинопанорама” приняла это за пенье”.
— Нет, это выбросьте. Это не эпиграмма, а вообще какая-то дребедень.
— Но это же ваше?
— (После паузы.) Не совсем.
— А Ефремову?
— Олегу Николаевичу? Про “Утиную охоту”?
— Нет, вот я читаю: “Олег, не век — полвека прожито, ты посмотри на рожу-то!”
— Ну это не эпиграмма, это где-то за кулисами было сказано. Нужно знать: когда, в каком месте было сказано и почему.
— Кто ж теперь восстановит. Читают-то сейчас.
— Неужели вы думаете, что одна моя эпиграмма может обидеть такого разностороннего, талантливого и мощного деятеля, как Олег Ефремов. Ну что вы, к этому нельзя так относиться. Такой большой человек и такая маленькая-маленькая эпиграмма, в какой-то момент сказанная.
— Козакову: “…всегда вдовца, всегда отца. Начала много в нем мужского. Но нет мужского в нем конца”.
— Ну Козакову — да. Козакову целый триптих написан.
— Вы его так любите?
— Как не любить, когда люди знают 50 лет друг друга.
— А Михалковым за что досталось? “Россия! Чуешь этот страшный зуд? Три Михалковых по тебе ползут”.
— А это не моя эпиграмма. Очень много книг сейчас издается. Открываешь — там половина не моего. А Михалковы — талантливые, уважаемые мной люди. Причем самое лучшее у меня было отношение с отцом. Михалков — первый человек, который, услышав мои маленькие стихи и эпиграммы, позвонил мне и сказал: “Давай я их напечатаю”. А еще говорил, чтобы я читал их не как Маяковский (Гафт захлебывается от смеха), а как простой человек.
— А вот еще. “В.Гафту. Когда ты сочиняешь эпиграммы, ты сам себе копаешь яму”. Ваше?
— Нет. Абсолютно. Ко мне никакого отношения не имеет. Честное слово.
— Так вы, получается, классик. Если копируют.
— Да вы что?! Когда открываешь Интернет: “Гафт” — да это какой-то ужас! Несколько раз смотрел — просто страшно становится. Лучше не знать. Сколько тебе всего приписывается. Легко очень: эпиграмма — значит, Гафт. Ладно бы талантливые — я, может, еще бы и не отказывался. Так бездарные!..
Эльдар Рязанов: “В Гафте чудовищно развито чувство самооценки. Он всегда недоволен собой, считает, что сыграл отвратительно... Самоедство, по-моему, просто сжигает его”.
— Рязанов где-то прав. Чаще всего я бываю недоволен собой.
— А что не так? Вы же наверняка анализируете.
— Очень много ошибок совершается.
— Кино — понятно, но если театр — нельзя же пленку назад прокрутить.
— Нет, если это театр, я ничего не вижу, но чувствую. А если кино, пленка, то чаще всего остаюсь недоволен. У меня есть работы, где кусочками мне что-то нравится. С течением времени. Проходит время, мне нравится, что я был гораздо моложе. Ничего не понимал, но чувствовал больше. Была и физическая сила, и движение. Понимаете? Это совсем другое.
— С ходу можете назвать пять работ, которые вам удались на 100 процентов?
— 100-процентной удачи не бывает. У меня не бывает.
— Мы-то, зрители, уверены в обратном. Наверное, потому, что вас любим. А вы почему так не любите себя?
— Нет, не могу сказать, что не уважаю то, что делаю. У меня работа очень интересная. Просто я достаточно требователен к себе и трезв.
— Нет ощущения, что молодежь вытесняет?
— Ничего подобного — у меня таких проблем нет. Слава богу, ко мне в театре хорошо относятся. Играл в год несколько спектаклей — считаю, достаточно. А молодежь я очень люблю. Если талантливые, если хорошо играют и приносят успех театру — пусть вытесняют.
— Может, и преемника назовете? Про кого из молодых можете сказать: вот он, гений!
— Из молодежи — нет, но хороших артистов очень много. Мне нравится Панин…
— Панин? Какой: Андрей или Алексей?
— Вот этот, маленький. Который играл во МХАТе. Замечательный артист. Второй Панин тоже прекрасный, но они разные совсем. Мне нравится Балуев, мне нравится Суханов, Маковецкий. Это все блестящие артисты.
— Вы прожили на этом свете 70 лет. Что-то еще может удивить, восхитить?
— Практически все. Вот в моей комнате очень много книг, значительную часть которых, к сожалению, я не прочитал. Удивляет до сих пор то, что ты читаешь, что видишь. Я уж не говорю об этом несчастном театре. И об этом несчастном кино, которое существует, кажется, миллиард лет. Вроде видишь, как похоже одно на другое и как много одинакового, и тем не менее…
— Что из последних открытий?
— Восхищают примеры. Меня, например, всегда поражают инвалиды, которые соревнуются на Олимпиаде. Когда видишь, как человек без рук плавает, маленький мальчик стоит на пьедестале, он поставил рекорд, — да я просто готов рыдать.
— Тяжелое зрелище, не для слабонервных.
— Да, тяжело. Тяжело, когда человек преодолевает несчастье. Такое, физическое. Если он находит способность жить да еще удивлять!..
— Но это сильные люди, правда?
— Конечно. Прекрасные. На них мир держится.
— А вы можете назвать себя сильным человеком?
— Я хотел бы быть сильным.
— А какое препятствие вам сейчас не под силу?
— Для меня препятствие — какая-то мелочь, ерунда иногда. О которой вообще говорить не стоит. Она для меня является раздражителем и портит настроение на дни, на месяцы. Это ужасная какая-то глупость, от этого надо избавляться.
— Например?
— Примеров много, не хочу об этом говорить. Ну мелочь какая-то, со здоровьем что-то связанное.
— Здоровье разве мелочь?
— Нужно на это не обращать внимания, нужно привыкать, нужно не надоедать другим. Нужно быть мужчиной. Понимаете, мужиком надо быть.
“МК”, май 2005 г.: “Из Санкт-Петербурга, где проходят гастроли театра “Современник”, пришла не очень приятная новость: из-за внезапной болезни Валентина Гафта отменен спектакль “Трудные люди”. Как стало известно, артист захворал еще в Москве, перед самым отъездом на гастроли он попал в больницу с нервным расстройством...”
— Нет, там сильно все преувеличено. Ну, просто человек заболевает, приходит момент, когда с ним что-то случается. Так, чтобы плохо было до такой степени, что прекращаешь работать, играть на сцене — нет, такого не было.
— Но это был нервный срыв?
— Да, вероятнее всего, так.
— Ваша профессия виной тому?
— Нет. Многие обстоятельства. Что-то накапливается и прорывается. Нет, профессия ни при чем.
— Она ведь жестокая.
— Я не дошел до такой степени, чтобы падать на сцене в обмороки. Просто заболел. Бывают какие-то параллельные вещи, так совпало.
— И “умирать на сцене” вы не собираетесь?
— Нет, об этом не думаешь. Вот Андрюша Миронов, с которым я репетировал “Фигаро”, когда-то бегал записывать монолог Фигаро в Бахрушинский музей. Меня это так удивляло. А умер он, не договорив этот монолог на сцене. Вот такие вещи тоже бывают. Умереть на сцене... Вообще жалко, когда хороший артист умирает. Где бы то ни было: в собственной кровати, в больнице или на сцене.
— Валентин Иосифович, да я не в буквальном смысле.
— Ну и в прямом смысле тоже. Примеров очень много. Умер на сцене Добронравов, Хмелев…
— А может, сцена того и не стоит?
— Я вам должен сказать, что когда человек работает и не думает о том, сколько он отдает, когда его заносит, когда он весь отдан работе и ничего не может сделать с собой… Потому что не спишь ночами, думаешь, пробуешь, тратишь на это силы, пытаешься чего-то достичь… Ну, изнашивается организм, понимаете. И что-то замыкается. Я думаю, от этого умер Смоктуновский, который достигал такой степени перевоплощения, мыслей, до которых доходил. Женя Леонов… Просто так не достается. Артист — человек, который работает собой, он — инструмент, на котором играют…
— Ну и ради чего все?
— Так нельзя. Человек не может остановиться. Это азарт. Как можно больше выразить собой. Как можно больше иметь. Как можно больше сообразить. И человек все время думает, человек все время наполняется, человек все время переполняется. А материальчик-то, который связан с сердцем… Я снимался в “Ночных забавах” с Женей Евстигнеевым, хотел посмотреть его сцену с Алферовой, он говорит: “Не ходи, эту сцену надо играть сердцем, а оно у меня сейчас что-то пошаливает”. А вы говорите “зачем”…