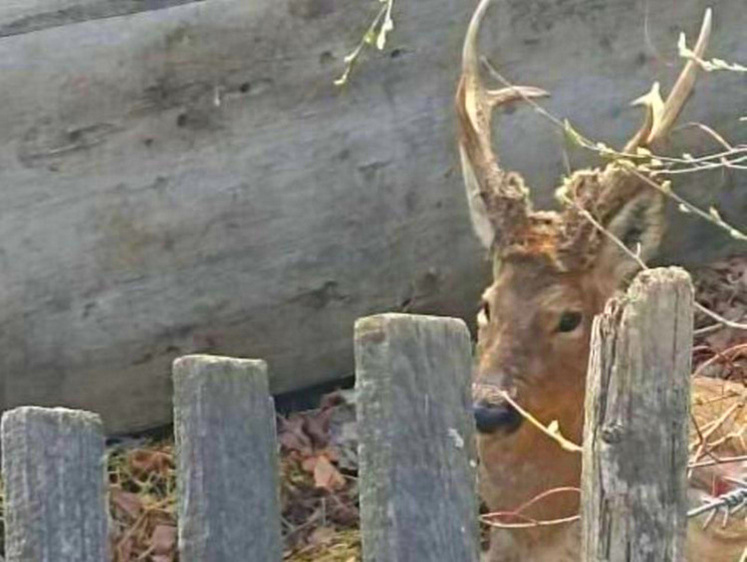Хло-о-оп! Этот глухой и такой безобидный звук, раздающийся каждый раз перед тем, как в фужере забулькает искрящийся золотой дождь, вызывает у меня какой-то животный ужас. Я закрываю глаза, затыкаю уши и пытаюсь убежать из комнаты.
Хло-о-оп! Так же невинно щелкает граната на “растяжке”.
На нее напоролась в Чечне моя близкая подруга. Хлопок, пара-тройка секунд — и ее жуткий, пробирающий до костей крик: “Ма-а-а-ма!!!” Еще две-три минуты — да нет, скорее секунды — когда ты еще не знаешь, что же с ней произошло, и от того кажущихся страшно долгими. Как в калейдоскопе, перед глазами мелькают какие-то картинки, налезают друг на друга бессвязные вопросы: “жива?.. как?.. почему?..”, и наконец: “Что я скажу ее маме?!”
Это было шесть лет назад неподалеку от Гудермеса, в десятке метров от меня. Подругу, как и врача, закрывшего ее собой, сильно посекло осколками, но ни один из жизненно важных центров задет не был. Уже через пару месяцев их живыми и здоровыми выписали из госпиталя.
Мы дружим до сих пор, но никогда об этом не вспоминаем.
В Академии управления МВД сейчас проходит фотовыставка военных журналистов, работавших в Чечне. Большинство из этих снимков печатались в газетах и журналах, и кажется, что ты их знаешь наизусть. Но увидев их вместе, отчетливо понимаешь: о такой знакомой и уже набившей оскомину бесконечной чеченской войне ВСЕ знать просто невозможно.
У каждого из нас — своя Чечня, своя история. У репортеров, фотографов, не говоря уже о самих военных. Вспоминать их не всегда приятно, особенно после того, как возвращаешься в нормальную, мирную жизнь.
Ты бы и хотел их побыстрее забыть, но они все равно тебя не отпускают.
Уж кто-кто, а Дима точно мог в Чечню не ездить — на тот момент в белорусском бюро ОРТ работы было до чертиков. Но Завадский вечно просился сам и “зависал” в командировках по месяцу. Таких, как он, военные называли “отмороженными”.
Вместе с калининградским СОБРом Дима не раз ходил в разведку. Ходил как все, без прикрытия. Ел из общего котла, спал на земле — как все. И за это его уважали. А когда во время ночного боя от сильного взрыва камера перестала записывать звук, и Завадский сказал, что останется еще на одну ночь, окончательно признали своим. Сейчас, задним умом, понимаешь: Завадский будто бы знал, что здесь, на войне, с ним ничего случиться не может, и просто не хотел возвращаться в родной Минск, где его уже поджидала смерть.
Бусловского тоже считали “отмороженным”. Его позывной знали в Чечне все — от полевого командира до простого боевика. “Черный в городе!” — этой фразы было достаточно, чтобы понять: пощады не жди. Виларий родился в Грозном, здесь же вырос. Когда из республики начали вытеснять русских, ткнул пальцем в карту и попал в Калининград. Туда и переехал. Сначала устроился в милицию обычным участковым, потом перешел в СОБР.
— Кто хочет денег и собирается и дальше “снимать” их с коммерсантов, лучше уйдите сразу, — предупредил он своих бойцов в первый же день. — Больше наш отряд “крышей” не будет.
Бусловский “построил” весь город. Он разогнал наркопритоны и прочие околокриминальные структуры, чем очень расстроил серьезных людей. С ним не раз пытались договориться и, лишь окончательно убедившись, что “СОБР теперь не купишь”, приняли новые правила игры. “В городе стало намного спокойнее”, — писали местные газеты. И это действительно было так.
Со стороны казалось, что он чует боевиков за версту. Стоило им только расположиться на ночлег в новом месте, как их тут же накрывал калининградский СОБР. Но на самом деле никакого “нюха” не было — была кропотливая работа с “источниками”. За такие локальные спецоперации Бусловского трижды награждали орденом Мужества.
В первую войну в одном из РОВД его отряд попал в окружение. Подробностей никто никогда не рассказывал, но отстреливались они тогда несколько суток и выжили чудом, потеряв лишь одного бойца — Алексея Бровковича. За тот бой командира собровцев представили к званию Героя России. Но Бусловский от него отказался. “Эта звезда — Бровковича. Он ее заслужил”, — сказал он тогда. И Алексей стал Героем России посмертно.
“Черного приговорили”, — говорили в Чечне. “Тебе лучше не ехать, есть достоверная информация, что на тебя поступил заказ”, — предупреждали Бусловского перед последней командировкой особисты. Но Виларий лишь отмахнулся — своих бойцов он не привык бросать.
Тот фугас закладывал суперпрофессионал. На уровне второго этажа, неподалеку от площади “трех дураков”, почти такой же знаменитой, как Минутка. Сначала проехали две “брони”, следом шел “Урал” и замыкал колонну экскаватор. “В городе полно блокпостов, а боевики спокойно проезжают из одного конца Грозного в другой. Никакой безопасности нет, мы лишь обманываем сами себя”, — кипятился Бусловский и договорился с экскаваторщиком, чтобы тот перекопал несколько улочек. Фугас взорвался прямо над командиром. В тот день погиб только он.
— Как Димка? Есть новости? — уезжая в последний раз на войну, спросил он про Завадского у спецкора ОРТ Олега Грознецкого. Олег лишь покачал головой. Оператора Дмитрия Завадского уже несколько месяцев искали по всей Белоруссии, а президент Лукашенко по-прежнему твердил, что никаких “эскадронов смерти” не существует и Завадский вернется домой. После его похищения прошло уже полтора года...
За штурм Комсомольского и ряд других операций Вилария Бусловского снова представили к званию Героя России. “Если кто и есть настоящий герой, то это он”, — говорили в Калининграде, отправляя десятки ходатайств в Москву. Но в МВД посчитали по-другому. “Действия Бусловского не тянут на это высокое звание”, — пришел после его гибели сухой ответ.
29 марта 2000 года лик на иконке практически исчез. В тот день под селением Джанной-Ведено колонна пермского ОМОНа была расстреляна боевиками. 32 милиционера погибли, еще 11 попали в плен. Двоих тяжело раненных милиционеров бандиты добили на месте, а тела девяти бойцов, числившихся пропавшими без вести, были найдены лишь через месяц.
В Волгоградской дивизии рядом с палаткой замполита раскинул свой брезент иеромонах Филарет. К нему, примчавшемуся в Чечню на перекладных, бойцы заглядывали чаще, чем к кадровому “воспитателю”. Кто поговорить зайдет, а кто крестик самый простенький попросит. Прознав про отца Филарета, ходившего по части в рясе, с огромным крестом и в армейском бушлате, к нему начали приходить со всей округи.
— Крестиков на всех не хватает, приходится за ними в Моздок летать, — трубным голосом сообщал он, садясь на борт в Северном.
— Батюшка, вот вы за всех нас молитесь, неужели не было ни разу, чтобы захотелось самому оружие в руки взять? — пытали его самые дотошные.
Отец Филарет задумывался, кряхтел и, тихонько попросив прощения у Бога, неохотно признавался: “Я не для этого призван”, — тянул он длинную паузу. И наконец говорил — громко, уверенно: “Но когда видишь, как убивают наших ребят, — хочется”.
Через полгода иеромонах помог своим солдатам не только молитвой. Во время тяжелого боя ранило двоих ребят. Огонь был таким плотным, что подойти к ним казалось просто невозможно. Отец Филарет долго молился, крестился, о чем-то договаривался с Всевышним. Видно, все же договорился, хоть и не до конца. Он пополз за ранеными бойцами — просившими, кстати, у него крестики — и вытащил их на себе, поймав при этом две пули. Одна просвистела над головой и задела по касательной, другая застряла в ноге.
— Иногда крестики на войне важнее патронов, — рассуждал он, лежа на больничной койке в моздокском госпитале, ни секунды не сомневаясь, что это не он спас ребят, а сам Господь Бог и его обереги.
...А иконка та, что была с собой у пермских омоновцев, потом все же нашлась. Она лежала в окопе — беленькая и аккуратненькая, будто и не валялась до этого несколько недель в жуткой грязи. Самое удивительное, что лик на ней был словно новенький, лишь слегка с боков будто подернутый прозрачной пленкой. Бойцы, нашедшие эту иконку, обещали отдать ее пермякам — тем, кто выжил. Вернули они ее или себе оставили — история умалчивает.
Они сидели в просторной палатке в Моздоке, и каждый говорил для него самое важное.
— А меня ведь снайпер едва не снял, — глубоко вздохнул полковник Анатолий Платонов, начальник временного пресс-центра МВД в Чечне. — Телевизионщикам нужно было “картинку” подснять, как над Северным поднимается наш флаг. Ребята торопились на борт, я согласовал этот вопрос с командованием и получил “добро”. Тут же пополз. В нескольких метрах от флагштока мне пальнули в ноги. Пуля попала в ступню, в подклейку от сапога.
— Так это был ты?!!
— А стрелял... ты?
У Валеры была четкая команда: “Всех, кто подойдет к знамени, стрелять на поражение”. У него была отдельная позиция, и задания он получал по радиостанции. Когда звучала команда “свои”, он откладывал винтовку в сторону.
— Свои!!! Что ж ты делаешь?!! — прохрипел голос в рации уже после того, как прозвучал выстрел.
— Почему не предупредили? — матерился снайпер. — Я ж не на поражение... Он ведь живой?
В штабной пункт Платонов вошел с забинтованным... сапогом — иначе подошва отваливалась. “Тебя ранили?” — удивился шедший навстречу генерал. “Да нет, не меня. Пока только сапоги”.
Известный фотограф Владимир Веленгурин был в Чечне десятки раз. Работал и на той, и на этой стороне. Его снимки знают во всем мире, он лауреат международных выставок, обладатель золотой медали престижнейшего репортерского конкурса “World press foto“, которую он получил за серию “Зачистка”, сделанную во вторую чеченскую. Эта история приключилась с ним.
Познакомились они еще в первую войну. Ехали на двух машинах, когда какой-то потрепанный парень, голосовавший на дороге, попросил подбросить до ближайшего селения. Пока добирались до Ачхой-Мартана, Руслан (назовем его так) успел рассказать, что только что сбежал из тюрьмы, где сидел за кражу. Неподалеку от блокпоста их “колонну” тормознули боевики. Журналистов проверили и отпустили, а Руслана повели к стенке. “Да что вы делаете, разберитесь сначала!” — кинулся следом Веленгурин. Пока суд да дело, подъехали другие чеченцы. “Его русские пытались вывести, он не наш!” — кричали первые, настаивая на расстреле. Но вторые оказались в большем авторитете, и парня отпустили.
— Через несколько дней я снова ехал через Ачхой-Мартан. Около селения машину тормознули, и меня под охраной привезли в незнакомую комендатуру. Долго вертели документы, кричали, что это фальшивка. Внезапно все замолкли — в комнату вошел аксакал. Прищурился немного и вдруг выпалил: “А я тебя вчера в форме капитана видел!”
Теперь к расстрелу начал готовиться сам Веленгурин — действительно, кто ж ему поверит, если на фотографии он без бороды, а здесь за две недели уже так зарос, что родная мама не узнает. Вдруг в комнату заходит тот самый паренек и начинает заступаться за него. Ему вроде бы верят, но все равно передергивают затворы. “Я сейчас, еще знакомого приведу. Вы его не троньте!” — кричит он уже на ходу. Возвращается через полчаса вместе с уважаемым в селении человеком, с которым Володя до этого несколько раз общался на блокпосту. Тот тоже подтверждает его “алиби”.
Конец 1996-го, хлипкое перемирие, которое так и не стало миром.
— Иду по центру Грозного, вдруг меня кто-то окликает: “Я же Руслан, помнишь?” — рассказывает Веленгурин. — Мы пошли к нему домой, он познакомил меня с родителями. А потом поведал, как вливался в мирную жизнь. “Нам заранее сказали, что надо пытаться как-то ассимилироваться. Говорили, чтобы мы любыми путями “прорывались” в органы власти. Я пошел в милицию... Знаешь, а на рассвете убивать очень легко. Ляжешь в укромном местечке, ждешь, пока очередная жертва “пойдет до ветра”, и спокойненько нажимаешь на курок. Он падает, ты смываешься и снова закапываешь автомат, а через час ты уже законопослушный гражданин и сам наводишь порядок”.
Руслан не лгал и ничего не утаивал. Веленгурин не знал, что ему делать, долго мучился, сомневался. Рассказать? Не рассказать?
— Может быть, я был не прав... Я промолчал.
Впрочем, знающие люди лишних вопросов не задают. Зам. командира калмыцкого СОБРа Баатр Гиндеев получил Золотую Звезду “по совокупности”. За Гудермес, штурм Грозного и Пригородного района, взятие Алхан-Калы, родового гнезда Арби Бараева. Там впервые во второй войне были серьезно разбиты боевики — “властелин Чечни” недосчитался тогда 58 человек. Самого Бараева убили в июне прошлого года — его нашли в подвале-могиле, аккуратно обложенного со всех сторон кирпичами, без ноги, без глаза и с пулей в голове. В тот момент, когда он уже отчитывался перед Аллахом, а военные рапортовали о самой крупной и удачной операции спецназа в Чечне, 29-летний подполковник Гиндеев, прочесывая подвалы, наткнулся на двух раненых мальчишек. У 7-летнего пацана осколком срезало часть темечка, а его 5-летний братик истекал кровью — тоже осколок, но только в бедро.
“Надо в госпиталь”, — делая перевязку, покачал головой фельдшер. Мать мальчишек, забившись в угол, лишь испуганно закрыла глаза, а Гиндеев уже вызывал по рации машину с броней. Через три дня, совсем в другом конце Чечни, его нашел отец тех мальчишек. Специально приехал, чтобы пожать ему руку и сказать спасибо. А еще через пару недель они снова встретились. Спецназ уже подъезжал к селению, когда навстречу Гиндееву вышел знакомый чеченец — тот самый благодарный отец. “Там вас ждут”, — бросил он всего три слова.
Спецназ пошел “другим путем”. Ловушка не сработала.
Из всех своих командировок он с удовольствием рассказывает только одну историю — о том, как встречал Новый год в Грозном. В этот момент он улыбается и забывает о двух контузиях, сковывающих голову при одном только упоминании о Чечне.
— Минут за 40 до прихода 2000 года вдруг наступила такая тишина, что я подумал: “Все, война кончилась”. Одинокие трассеры, мерцавшие где-то вдалеке, казались в тот момент отблесками обычных домашних елок и ничуть не портили благостной картины, — вспоминает Баатр. “Чтобы мы больше никогда не воевали!” — это был главный тост той ночи.
С боем кремлевских курантов 40 минут мира закончились жуткой канонадой. Палили все — и чеченцы, и наши. Но палили они не друг в друга, а вверх, опустошая со счастливыми лицами магазин за магазином.
Вот уже несколько лет только одну ночь в году в Чечне не стреляют друг в друга. “Чтобы в Чечне всегда был Новый год”, — зная об этой традиции, говорит отец Баатра, простой тракторист из крошечной калмыцкой деревушки Аршан-Зельмень, и разливает домашний самогон. Улицу, на которой они живут, переименовали в улицу Героя России Баатра Гиндеева.
Нас уже ничем не удивишь, нас уже ничего не трогает.
В Северном, в госпитале, где мы когда-то жили, сбоку зияли черные дыры — от бомбежек. В мирное время их заделали. Во вторую кампанию они появились снова — в том же самом месте, только увеличились в размерах. Как и шесть лет назад, я вздрагиваю, когда открывают шампанское. “Посттравматическое стрессовое расстройство, это пройдет”, — говорили мне военные врачи. Я знаю это, но только почему-то не проходит. Я по-прежнему боюсь услышать истошный крик “ма-а-а-ма!!!” и называю лес “зеленка”.
Столько лет прошло, а НИЧЕГО не изменилось.