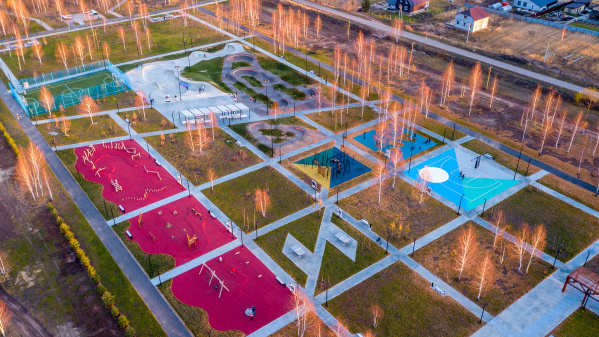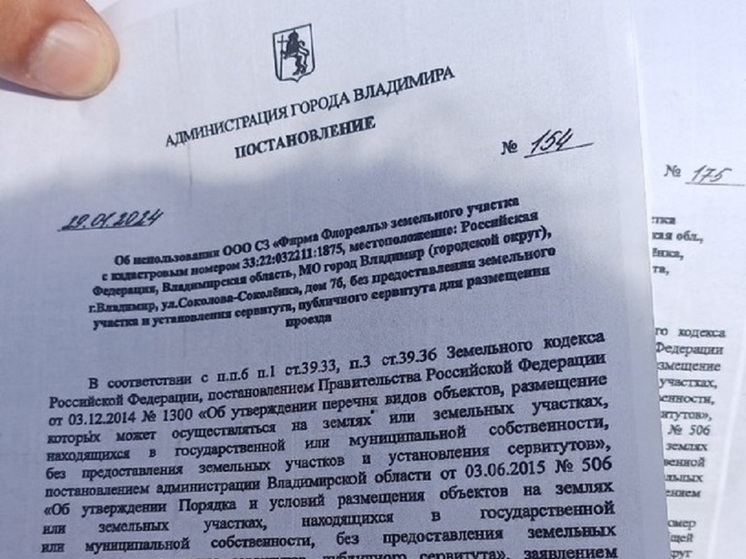- Сейчас куда ни приедешь — все готовятся к конкурсу. В музыкальных школах, училищах, консерваториях — везде. Люди не успевают люди получить серьезных базовых навыков, потому что им все время надо что-то доводить до совершенства, куда-то бежать, где-то выступать. Тому есть объяснение — если у педагога нет лауреатов, то ему не повышают ставку. Эта суета и спешка особенно чувствуется в регионах. Наш региональный проект призван дать альтернативу, помочь студентам областных музыкальных учебных заведений знакомиться с новшествами в исполнительском искусстве.
- Этот проект уже снискал славу, но для непосвященных напомните его суть.
- Изначально у нас был многолетний проект «Трио им. Рахманинова и друзья». Мы знакомились с разными исполнительскими школами, приглашали выдающихся партнеров из разных стран, чтобы помузицировать с ними, поучиться самим. Давали совместные концерты, куда приглашали вокалистов, камерных исполнителей, самых разных музыкантов со всего мира.
Потом мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы привозить их в региональные консерватории, чтоб они могли пообщаться со студентами и педагогами на местах. Потому что в Москве и Петербурге и так все бурлит, и связи нормально налажены, а вот, скажем, Новосибирск, Владивосток, Астрахань — они изолированы, варятся в своем соку. Хотя там работают прекрасные педагоги — российская музыкальная школа очень мощна — но последних европейских тенденций они не знают.
И в 2011 году стартовал наш региональный проект, который поначалу поддержал Минкульт. Два года мы ездили по разным регионам, достаточно плотно, привозили туда серьезных исполнителей на разных инструментах. Давали концерты и мастер-классы — это вызвало огромный резонанс, проект пошел.
- Что вы подразумеваете под новыми европейскими тенденциями?
- Когда мы впервые пригласили серьезных европейских музыкантов, то увидели, насколько велика разница в подходах. Например, наши студенты играют сонату Бетховена по изданию 50-х годов. Хорошее издание — для того времени, но с тех пор произошла настоящая революция в осмыслении текстов, возврат к аутентичным изданиям, переосмысление фразировки — да всего, практически. Если объяснять «на пальцах» - текст, написанный композитором, впоследствии подвергается различным редакциям. Меняются эпохи, стилистика. Инструменты меняются — появляются другие струны, металлические вместо жил, другие смычки, другое натяжение струн, мощность инструментов. Музыканты переосмысляют исполнение, проводят большую интеллектуальную работу, и в результате получают совершенно иное прочтение музыкального текста.
А российские региональные студенты и педагоги остались в стороне. И у них даже не возникло потребности в этом, потому что авторитеты тех музыкантов, по редакциям которых они играли, были непререкаемы. Если с таким прочтением Баха или Моцарта они приедут на конкурс в Европу — над ними будут смеяться, сейчас так никто не играет. Вот в рамках нашего проекта мы и даем студентам и преподавателям возможность не только познакомиться с европейскими тенденциями, но так же из первых рук получить мастер-классы от исполнителей, асов в своем деле. Привозили им, например, Хольцмайера, лучшего популяризатора Шуберта, специалиста по камерному вокалу. Таких специалистов у нас практически нет, потому что вокал, который преподают в российских вузах — это итальянская манера, то есть оперный вокал...
- В этом сезоне какие города вы посетили в рамках проекта?
- Восемь городов — Саратов, Новосибирск, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфу, Самару, Томск. И сами давали там мастер-классы, и в каждый город обязательно приглашали кого-то из гостей — из Италии, Израиля, Вены, и из России тоже. И это большое достижение, что такой важный проект продолжается — постепенно финансирование Минкульта сошло на нет, и нам приходилось искать другие источники, самые разные. Нам помогали посольства разных стран, авиакомпании. Что называется, с миру по нитке. Посольства европейских стран в Москве выделяли деньги на приезд своих музыкантов, авиакомпании перевозили бесплатно наших гостей в Москву и обратно. На сегодняшний день эту проблему нам помогает решить Газпром, и мы очень благодарны за то, что удалось сохранить проект. Сами мы работаем практически без прибыли, едва в ноль выходим.
- Что в таком случае вами движет?
- Для нас это уже дело чести. Мы начали этот проект и видим, какую он пользу приносит. Если угодно, это наш вклад в развитие нации. Потому что подобной деятельностью в России никто не занимается. Есть разные проекты, государственные или крупных фондов, которые нацелены на другое. Они отбирают в регионах лучших студентов, помогают им, дают возможность уехать в Москву или Петербург, выиграть тот или иной конкурс, удержаться на плаву... Это тоже нужно и важно — давать шанс талантливым людям. Вот только эти люди обратно в свой регион обычно уже не возвращается. А наш проект нацелен на то, чтобы чтобы все молодые музыканты на местах получили возможность научиться чему-то дополнительно. Тогда у учащихся появляется другое мышление. И это сразу сказывается на уровне, скажем, местного оркестра, куда приходят работать бывшие студенты местной консерватории. Наш проект уравнивает возможности региональных и московских студентов. И, главное, у них появляется интерес к этому развитию. А если интерес есть, то дальше многое они уже могут и сами найти, в интернете, в частности.
Конечно, подобное нужно делать в большем объеме и более регулярно. Например, в Европе есть такая система под названием «Эразмус» - она координирует обмены между учебными заведениями всех стран Евросоюза. У них мастер-классы — это совершенно обыденная вещь, они встроены в обучение. Там студенты все время куда-то ездят, и к ним все время кто-то приезжает.
- Помимо мастер-классов вы давали и концерты?
- Конечно, причем концерты публичные, не только для студентов. Они рекламировались, афишировались. И я заметил — если сравнивать с первым годом проекта, то интерес колоссально вырос. Люди ломятся — у нас в Уфе было зрителей вдвое больше, чем мог вместить зал. В Казани центральный зал, очень большой — битком. Да во всех городах полные залы, огромный интерес.
В музыке очень важна подпитка, так сказать, удобрение почвы. Серьезное, вдумчивое отношение к процессу обучения, что называется, не вширь, а вглубь. Тогда она будет жить.
Вот над этим мы и работаем.