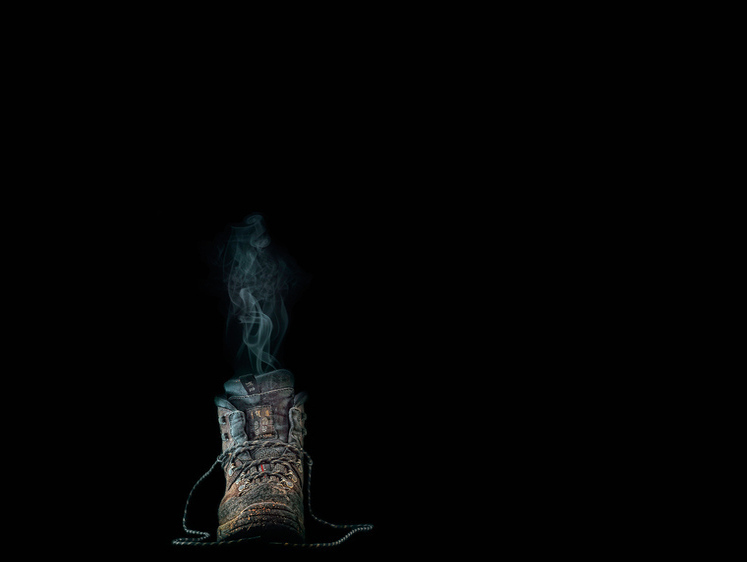Анна родилась в Москве, окончила переводческий факультет Московского педагогического университета, став лингвистом-переводчиком английского и французского языков, а потом — сценарный факультет ВГИКа.
Матиас Муса получил образование на факультете цифрового искусства Высшей школы кинематографии в Буэнос-Айресе, учился режиссуре анимации в Школе мультимедийного искусства да Винчи, работает как независимый режиссер и оператор на телевидении.
Главная героиня фильма «Невада» Шура живет в русской деревне. Ее муж попадает в психиатрическую больницу, наделав своими необъяснимыми поступками шума на всю округу. Надежды на благоприятный исход мало. Врачи ничего хорошего не обещают. Шура мужа не любит давно, а потому не знает, как поступить — остаться с ним и терпеть или же начать новую жизнь. Пока она живет со свекровью, которая глаз с нее не сводит, контролирует каждый шаг. Муж тем временем исчезает из больницы, и Шура постоянно ощущает его присутствие.
Мы поговорили с Анной Тюриной после премьеры «Невады» на ММКФ.

— Вашим мастером во ВГИКе был сценарист фильмов «Москва слезам не верит», «Выйти замуж за капитана», «Любить по-русски», «Дети Арбата» Валентин Черных. Поступая к нему на сценарный факультет, вы мечтали стать кинодраматургом или же изначально грезили о режиссуре?
— Кинорежиссура, конечно, интересовала. Но и писать я начала довольно рано. Лет в 9 написала фантастическую повесть про летающего пуделя. Мечтала о собаке, которую в итоге мне так и не купили. Помню, классе в третьем собрала одноклассниц и поставила пьесу Островского «Семейная картина», которая была предъявлена соседям по лестничной клетке. В 90-е у нас появилась видеокамера для семейных хроник, и я все время экспериментировала. Конечно, я знала, что рано или поздно попробую поступить во ВГИК. Меня привлекал режиссерский, но очное обучение я не могла себе позволить. Нужно было искать работу. В итоге приняла решение идти на заочный сценарный факультет. Дала себе четыре попытки на поступление, но в итоге поступила с первой и оказалась в мастерской Черных и Кожиновой. Это безусловная удача — учиться у таких великих мастеров. Прекрасное было время. На параллельном курсе преподавал Арабов, его лекции я часто посещала. К нам на занятия приходили Володарский, Гребнев. Так их всех сейчас не хватает!
— Как же состоялся ваш режиссерский дебют с аргентинской командой?
— На эту авантюру меня сподвигнул мой муж-аргентинец. Мы познакомились в Буэнос-Айресе, куда я приехала в отпуск. У меня с собой был материал отснятого мной документального фильма, над которым я работала. Матиас посмотрел его и предложил помочь с монтажом, в процессе которого смонтировалась и наша личная история. А фильм «Ритуальные принадлежности» был показан на «Артдокфесте» в Москве и на фестивале «Россия» в Екатеринбурге. Мы решили, что следующий фильм попробуем снять вместе. И это будет игровой фильм. Я написала сценарий, мы начали показывать его продюсерам, история нравилась, но вкладывать в нас деньги никто не спешил. Большинство начинает с короткометражек, а тут сразу полный метр. Несопоставимые риски.
В Нижегородской области, в селе Бармино, в доме бабушки и дедушки, в разговоре с моей тетей Инной всплыл студенческий сценарий, написанный мной еще на третьем курсе ВГИКа. Это был сложный период в моей учебе, мне не нравилось то, что я делаю, было много сомнений, и я подумывала уйти из института. Помню, как показала этот сценарий Юрию Арабову, и он сказал: «В этой истории есть жизнь». Меня так ободрили тогда его слова, что я решила не торопиться, продолжила учебу во ВГИКе и впоследствии весьма успешно его окончила.
Так вот, именно моя тетя тогда сказала, что вместо долгих поисков денег на сложный проект можно попробовать снять что-то своими силами, привлечь местных жителей. Эта идея очень понравилась моему мужу.
— Удивительно, что ваша тетя, будучи деревенской жительницей, дала вам такие дельные советы в, казалось бы, далекой от нее сфере...
— Это была интеллигентная сельская семья. Мой дед работал завучем в школе, преподавал физику и математику. Отец был ученым, окончил легендарный физтех в Долгопрудном, был человеком неординарным. А тетя Инна — лингвистический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского.
Почти каждый год вся семья собиралась в родительском доме моего отца на Волге. Там и состоялся наш разговор с тетей о том, что можно сделать самостоятельный проект. Это была наша прощальная встреча. Инна была серьезно больна, и мы знали, что больше не увидимся.
— Как дальше развивалась эта идея?
— Я перечитала старый сценарий, и мы поняли, что эту историю сможем снять минимальными средствами в знакомых локациях и с непрофессиональными актерами. Я заново переписала сценарий, адаптируя под некоторых жителей нашего села. Сантехник у нас играет сантехника, патологоанатом — патологоанатома, врач — врача и т.д. Конечно, главные роли и несколько эпизодических ролей сыграли профессиональные актеры. В роли свекрови я сразу представила Ольгу Лапшину. Не знаю, что бы было, если бы она нам отказала.
А дальше мой муж, прекрасный организатор, привлек в проект аргентинских и европейских друзей-кинематографистов. Они заинтересовались историей и идеей съемок в России и согласились работать совершенно бесплатно. Помню, накануне съемок Кожинова меня спросила: «Ань, ты понимаешь, что это риск?» В общем, мы рискнули. Собственными силами организовали кастинг в Нижнем Новгороде, исходя из местной лексики, искали нижегородских артистов. Так у нас появилась Татьяна Дмитриевская, сыгравшая роль Шуры. Самое интересное, что она пришла второй на кастинг, и мы сразу поняли, что выберем Таню. У нее это дебютный фильм.
— Татьяна — профессиональная актриса?
— Она окончила кукольное отделение Нижегородского театрального училища, работала в театре, но выживать было сложно. Какое-то время Татьяна преподавала сценическую речь в частном порядке, а сейчас занимается дизайном, поскольку прекрасно рисует.
— Клич о кастинге в Интернете бросили?
— Мы нашли специалиста по кастингу в Нижнем Новгороде. Она помогла нам организовать оповещение в Интернете. К нам приходили профессиональные и непрофессиональные артисты. Некоторых мы впоследствии взяли на эпизоды. Все закрутилось, и мы поняли, что обратной дороги не будет. Хотя денег катастрофически не хватало, приходилось все делать самим. Мы понимали, что шансов привлечь крупных продюсеров на такой проект у нас нет. С другой стороны, не хотели, чтобы кто-то извне оказывал на нас влияние. Так маленькой группой независимых кинематографистов был снят этот фильм.
— Можно себе представить, как встретили в селе иностранную киногруппу. Вас, наверное, воспринимали как инопланетян?
— Наша международная группа сумела очень деликатно встроиться в русскую жизнь, не привлекая к себе особого внимания. Конечно, все в деревне знали, что приехали иностранцы, но это было органично. Они гоняли на моем мопеде, который шуточно прозвали «Поворотти» (от слова «поворот»), парились в бане, закупали продукты, быстро сориентировались в пространстве, не зная ни слова по-русски. Это было давно, во время чемпионата мира по футболу. Все теперь очень скучают по тем временам.
— Долгий путь вы прошли...
— Год после съемок мы искали деньги на постпродакшн, питчинговали проект. Потом началась пандемия, и все встало. Мы тогда находились в Аргентине и, пока нас всех закрыли на карантин, решили делать чистовой монтаж своими силами. К проекту присоединился наш коллега Игнасио Масжоренс, режиссер и преподаватель монтажа в институте кинематографии в Буэнос-Айресе, с прекрасным чувством ритма и пониманием драматургии. Было большое удовольствие работать вместе.

— Сработал, наверное, взгляд со стороны и на монтаже, и когда аргентинская группа приехала в Бармино. Наверняка какие-то вещи выхватывали, которые нам не очевидны.
— Да, и это заметно в операторской работе. Нам хотелось свежего взгляда на русский быт, других глаз. Элиасу удалось выполнить эту задачу. Что касается художника-постановщика, то у нее было желание добавить некоторые детали, но мы хотели, наоборот, убрать из кадра лишнее, сохраняя при этом реальность такой, какая она есть.
— Ваш замечательный мальчик Толя приезжал в Москву на премьеру? Изменилась ли его судьба после съемок?
— Нет, к сожалению, он не смог приехать. Сейчас ему 16 лет, он работает на шиномонтаже и о кино не мечтает. Я понимала, что Толя не будет двигаться в сторону актерства, поскольку у него не было осознанного понимания, зачем это нужно. При этом работал он как настоящий профессионал, вовремя приходил на съемки и полностью отдавался процессу. Ему было с нами интересно. И мы очень его полюбили.
— В фильме много ярких работ, и очень убедительны барминские сантехники.
— Изначально мы собирались искать профессионального актера на роль мужа главной героини. Но когда я увидела Сашу Летицского, его глаза, его телесную напряженность, поняла, что нужно попробовать его на роль Дани. Мы репетировали сцену в больнице, и это было невероятно. Он сел и просто ушел в себя, ушел в свою глубину. Казалось, что передо мной реальный пациент психдиспансера.
— У Александра очень выразительное лицо.
— Очень. Было понятно, что персонаж найден. И если исполнительницу главной роли мы нашли довольно быстро, то мальчика на роль ее сына нам пришлось поискать. Мы смотрели ребят из нижегородских театральных студий, но все они выглядели такими вышколенными, благополучными и очень старались нам понравиться. В итоге нашего Алешу мы нашли в барминской школе, той самой, в которой преподавали мои дедушка и бабушка.
— Героя, на которого засматриваются в деревне все женщины, поскольку все он умеет делать, тоже ведь сыграл местный сантехник?
— Да, Юрий Михайлович Ковалев человек интересный. Он все время молчит и курит, но делает это настолько выразительно, что может обходиться без слов.
— Ваш муж учился анимации, но пришел в игровое кино. Как это произошло?
— Матиас учился режиссуре анимации, но у него большой опыт работы в кино и на телевидении. Он знает все производственные процессы и всю техническую составляющую фильма. Он профессиональный кинооператор, монтажер, может выстроить свет, записать звук, даже сделать титры.
— Удалось показать ваш фильм в Аргентине?
— Да, он побывал на международном кинофестивале независимого кино BAFICI в Буэнос-Айресе, где получил премию, и попутешествовал по городам в его рамках. Фильм был хорошо принят в Аргентине. Мы остались довольны критикой. Можно самостоятельно организовать там прокат, но мы пока не решили, будем ли этим заниматься. С европейскими кинофестивалями по известным причинам дела сейчас обстоят непросто, но недавно мы получили хорошую новость. Так что фильм скоро встретится и с европейским зрителем. В какой-то момент было ощущение, что все уйдет в никуда. Сейчас я успокоилась, думаю, фильм будет сам прокладывать себе дорогу.
— Вы приехали в Москву с двумя маленькими детьми. Младший ребенок еще в коляске...
— Младшая дочка впервые в России. Для нас ММКФ стал важным поводом долгожданной встречи с близкими. И мы очень благодарны представившейся возможности показать фильм российскому зрителю. Нам очень важно быть услышанными.
— Вы постоянно живете в Аргентине?
— Последние четыре года. Раньше жили на две страны. Мы уехали в 2020 году, накануне пандемии, думали — ненадолго. Сейчас сложно что-то планировать. В Аргентине очень тяжелая экономическая ситуация.
— Есть у вас возможность снимать в Аргентине?
— С местной киноиндустрией дела сейчас обстоят плачевно, конечно. В этом году новое правительство закрыло Национальный институт кино, выделявший деньги на кинопродукцию. Посмотрим, что будет дальше. Нужно сориентироваться. У меня есть несколько синопсисов для возможной копродукции между Россией и Аргентиной.
— Пока у вас исключительно семейная копродукция? На официальном уровне нет соглашений между Россией и Аргентиной?
— Официального соглашения между нашими странами не существует. Они есть у Аргентины с Испанией, Мексикой, Бразилией, Чили, Уругваем, Францией, Италией… Можно попробовать делать проекты, подключая третьи страны. Все возможно, если есть крепкая история и заинтересованные люди. «Невада» в этом смысле, конечно, безумие, на которое можно решиться раз в жизни. Но оно того стоило. Сейчас очень важно искать пути объединения. Нам бы очень хотелось быть одними из тех, кто протянет этот мостик в виде совместных проектов, который мог бы соединить наши страны.