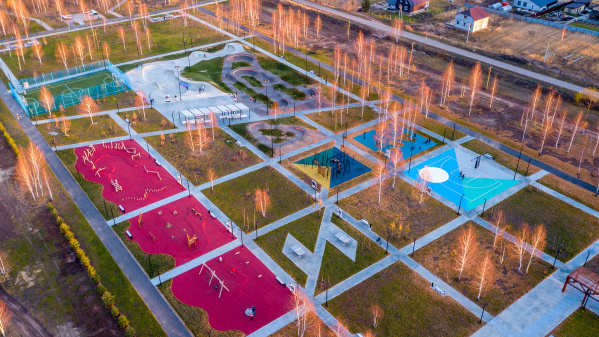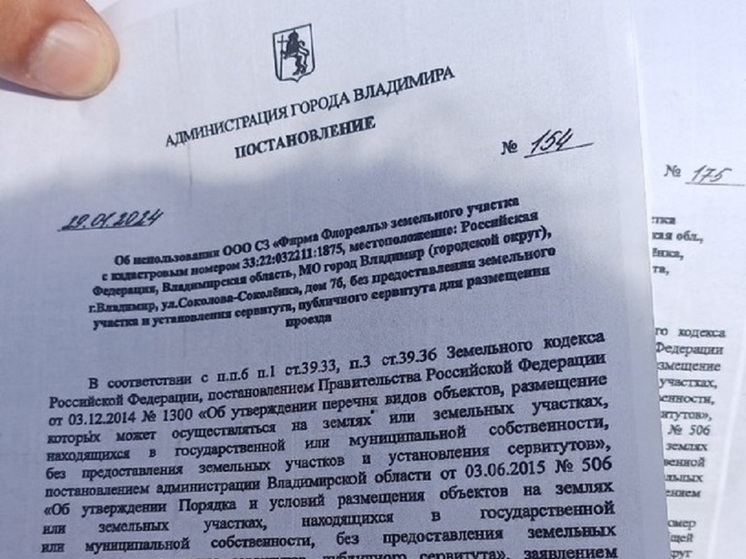Как дипломатично утешил недавно президент Путин небезызвестного Жириновского, дольше всех ожидавшего своей очереди на получение чего-то там, — вы, мол, последний по алфавиту, но не последний по значению. Судьба писателя Андрея Яхонтова в этом смысле куда более предопределена. Во всех алфавитных списках ему век плестись в самом конце. А уж о собственном значении и вовсе рассуждать не приходится — не писательское это дело. Поэтому Андрей, со свойственной ему любознательностью коллекционера жизни, внимательно глядит по сторонам, иронично улыбается сквозь алексей-пешковские усы и с щедростью сеятеля делится своими наблюдениями с современниками. В широкополой шляпе он действительно чем-то напоминает Максима Горького. Только он — Яхонтов. Не менее звучно и гораздо более жизнерадостно. “Койка”, “И эту дуру я любил”, “Женщина с прошлым”, “Любовь со скелетом” — громкие недавние премьеры по его пьесам. А в своей нашумевшей книжке “Учебник Жизни для Дураков” Андрей всенародно доказал: самое умное — быть дураком. Правда, ему самому — признался он в канун 50-летнего юбилея — до сих пор не всегда это удается.
— Андрей, как приходят в литературу?
— Иногда кажется — задолго до рождения и физического появления на свет. Есть теория, которая говорит, что ребенок еще до зачатия выбирает, в какой семье расти. У меня было идеальное для будущей жизни сочетание родителей, бабушек и дедушек. Мама — машинистка, перепечатывала рукописи замечательных писателей, я частенько совал в них нос, а уж когда стала перепечатывать запрещенных “самиздатовских” Солженицына, Галича, Шаламова, и вовсе окунулся с головой в литературу, которая пришла к основной массе читателей спустя десятилетия. Отец — актер...
— Владимир Яхонтов — ваш отец?
— Нет, папу звали Николай. Он очень ярко начинал, сыграл в фильме “Сын полка” роль разведчика Егорова, а потом жизнь не задалась. Слишком он был добрый и мягкий, не умел за себя постоять. А когда и другие перестали его поддерживать, совсем сник. Но мне папа дал очень многое. По вечерам он садился в кресло, открывал книгу и читал вслух Тургенева, Аверченко, Джека Лондона, Сетона-Томпсона... Чтец он был великолепный... С детства я был погружен в атмосферу литературы, бывал у папы в театре. А брат моей мамы Александр Фальковский был хорошим художником, придумал клоунский костюм Юрию Никулину. К нам домой приезжал и другой знаменитый клоун — Олег Попов, я взял у него автограф, который храню до сих пор. Мама на обед приготовила желе. В чашечках. А Попов думал, что это кисель или морс, никак не мог отпить, решил: его разыгрывают. Может быть, потому, что мой дядя любил пошутить. Тогда мало кто ездил за границу. Дядя с цирком поехал. И купил в магазине розыгрышей... ну... такую кучку... синтетических экскрементов. И в очень высокопоставленном советском доме, куда был приглашен, пока все важные гости вели беседу в гостиной, прокрался в столовую, где уже был накрыт торжественный стол, положил эту кучку на ковер посреди комнаты. И вот всех приглашают отобедать, гости входят... И у них столбняк, шок. От одной мысли, что кто-то из этих расфуфыренных особ способен совершить такое: посреди комнаты и рядом с праздничным столом наложить, будто лошадь... Потом, когда оторопь прошла и дядя объяснил, что экскременты искусственные, все рассмеялись. Но в этот дом его больше не звали. Он (и я вслед за ним) любил эксцентриков. Карандаша с его Кляксой...
— Значит, тяга к рискованному юмору в вас с детства? Расскажите, как можно было заведовать самым популярным отделом сатиры, я имею в виду знаменитый “Клуб “12 стульев”, в подцензурную эпоху?
— Я об этом много писал в книге “Коллекционер жизни”. Это были очень трудные для меня, но очень счастливые годы. Мне было 33, когда я возглавил этот отдел. По тем временам — мальчишка (тогда начинающими, молодыми писателями считались те, кому под 50...). И это было громадное испытание...
— Сильно давили?
— Конечно, и давили, и наседали очень многие. Не хочу называть имен — их все знают. Юмористическая мафия на протяжении последних 15 лет не претерпела изменений.
— То есть завистников хватало?
— К зависти отношусь спокойно. С пониманием. Когда-то нелюбимый многими, но очень глубокий собеседник Сергей Михалков открыл мне ее механизм: “Хочешь, чтоб все тебя любили? Очень просто, нет ничего проще. Издавай одну книгу раз в двадцать лет, одевайся во что-нибудь рваненькое, появляйся с такими женщинами, чтоб самому противно было. И болей, болей... Лучше всего неизлечимо. Все будут тебя обожать...”
Я с момента рождения уже прожил несколько жизней. И еще несколько, думаю, мне предстоит. Начиналось все с нищего детства в московском подвале. Потом передо мной открылась карьера преуспевающего литературного чиновника. Позже узнал жизнь неудачливого писателя, которого не печатают и у которого нет денег на трамвайный билет. А через несколько лет примерил судьбу модного драматурга и прозаика, который на “Койке” выходит раскланиваться перед аншлаговым залом и чей роман “Учебник Жизни для Дураков” становится бестселлером.
— Как вы совершили скачок от неудачливого литератора к модному драматургу?
— Сначала были достаточно тяжелые годы в “Литгазете”. Я страшно рвался туда работать. После окончания журфака мне предлагали пойти в АПН на очень большую зарплату (я, мама и бабушка жили втроем в коммунальной квартире на мамину зарплату в 120 рублей). Второй вариант — стажерская ставка 60 рублей в “Литгазете”. Я сел совещаться с мамой, и на этом семейном совете она сказала: “Ну конечно, иди в “Литгазету”, как-нибудь проживем”. Я маме очень многим в жизни обязан, если не всем. В “Литгазете” десять лет работал в отделе русской литературы, потом пять лет возглавлял клуб “12 стульев”. Совершенно забросил писание книг, пьес, забыл все, что хотел делать. Меня служба захватывала, увлекала.
— Чиновничья работа... увлекала?
— Да, как ни странно, мне нравилось. Может быть, брал реванш за годы нищеты. Я пожимал руку нынешнему американскому президенту — когда в составе делегации молодых политических лидеров (каждый в этой нашей бригаде представлял какое-то профессиональное направление, кто-то — космонавтику, кто-то — Советскую власть, я — писательство, Марина Зудина — актеров) — входил в Вашингтоне в Белый дом. Рейган был занят, вице-президент Буш-старший — тоже, и нас принимали министр финансов, будущий госсекретарь Бейкер и Буш-младший. Я представлял Советский Союз на первой Всемирной конференции сатириков в Индии, светился на фестивалях юмора в Габрове...
Мне нравилось ездить за границу, нравилось, что принимают в Белом доме — говорю откровенно, потому что вовремя этим переболел. Вероятно, даже нужно было переболеть, чтобы понять: это не моя жизнь. Ведь почему я выбрал путь чиновника? Я не делал карьеру ради карьеры. Моим кумиром был Чингиз Айтматов, я наблюдал, как он, поднимаясь выше по служебной лестнице, пишет все более смелые романы. Мне казалось, что если пройду по чиновничьему лезвию, то и больше будет позволено сказать. Я подружусь с большими начальниками, и уж они дадут мне написать то, что хочу. Я очень сильно ошибался. И с большим опозданием понял, что никогда не смогу использовать людей, которые стоят у власти — всегда они будут использовать меня. И, вернувшись из Америки, я очень быстро из “Литгазеты” ушел. Тяжелое, мучительное решение, ведь впереди все казалось абсолютно накатанным и ясным. Я получал большие деньги, у меня выходили книги, репетировалась первая пьеса в Ленинграде. Но я ушел обратно в нищету.
— А что вам сулило продолжение “накатанного” пути?
— Даже не хочу думать. Ну, стал бы лощеным негодяем. Наверное, на достаточно неплохом уровне. Еще одна карьерная ступень, затем другая... Это дьявольская дорожка. Раз ступив на нее, очень трудно с нее сбиться, а она ведет все круче и круче к обманным вершинам.
— Есть не обманные?
— Для меня — безусловные. Набоков, Бродский, Булгаков, Василий Гроссман... Ныне здравствующие, очень дорогие для меня люди: Александр Борщаговский, Леонид Зорин, Марлен Кораллов, Анатолий Ананьев, Александр Павлович Тимофеевский. Мне повезло, я знал Вениамина Александровича Каверина.
— А еще — Сергей Михалков, Андрей Соколов, поставивший вашу “Койку”, Сергей Безруков, сыгравший в ней главную роль... Это — ваше привычное и постоянное окружение?
— Судьба с кем-то сводит, а с кем-то не желает сталкивать, хоть тресни, хоть в лепешку расшибись. “Койка” пять лет скиталась по разным театрам, прежде чем Соколов ее поставил. Эта пьеса познакомила меня с удивительными людьми. Они на репетициях плакали, так остро переживали и чувствовали боль, которая вызывала к жизни эту пьесу.
— У вас двойственный имидж. Вы — пересмешник, лауреат многих премий в области юмора, а из-под вашего пера выходят трагические вещи. Хотя бы роман “Любитель Крепкого Чая”...
— Стараюсь то, что возможно, перевести в шутку. Иначе существовать невозможно. На гастролях в Израиле, где Театр Гоголя показывал “И эту дуру я любил”, в одном из городков встретил старого товарища, давно уехавшего из России, мы с ним по случаю нежданного свидания крепко выпили. Виталий Яковлевич Вульф, который предварял каждый мой спектакль вступительным словом — таковы были условия контракта, — страшно рассердился, что мы пьем и пьем и не спешим возвращаться в Тель-Авив, в гостиницу. Виталий Яковлевич — человек абсолютно непьющий. Уехали из городка уже за полночь, плутали по неизвестным дорогам, заблудились. Вульф в сердцах закричал, что уедет к чертовой матери с гастролей: ему такая жизнь не по силам. На другой день я вывесил в гостинице возле лифтов приказ по театру (бланк раздобыл у замдиректора Цезаря Сандлера), в котором Вульфу за систематические пьянки объявлялся выговор и делалось последнее предупреждение. В случае непрекращения алкогольных загулов ему, как значилось в приказе, грозило принудительное выдворение из Тель-Авива в Москву.
— Он не обиделся?
— Виталий Яковлевич человек с превосходным чувством юмора.
— А когда вас разыгрывают — не лезете в бутылку?
— Если мастерски — прихожу в восторг. Александр Панкратов-Черный и Борис Хмельницкий отмечали общий день рождения. Дело было в Сан-Франциско, на чемпионате мира по футболу. Мы с Валентином Смирнитским решили устроить небольшой розыгрыш. Подошли к официанту и попросили: “Принеси в конце вечера во-о-от такой счет... Впиши туда побольше. Икру, “Смирновскую” водку, лобстеров... Ну, все, что захочешь... Чтоб сумма получилась астрономическая и у ребят глаза полезли на лоб”. Официант стал отказываться: “Не имею права...” Мы горячо убеждали: “Это же шутка, понимаешь? Джоук!” В конце концов он согласился: “О’кей. Джоук”. Вечером в ресторан пришли Евгений Моргунов, Марк Рудинштейн, Александр Гафин... Начались поздравительные тосты... И тут вступивший с нами в сговор официант начал метать — поднос за подносом — икру, “Смирновскую” водку, лобстеров и кальмаров. И многое другое. Никто не мог ничего понять. “Мы это не заказывали”, — говорил Панкратов-Черный. “Это перебор”, — говорил Хмельницкий. Но официант им подмигивал: “Джоук. Это шутка ваших друзей”, — и ласково глядел на меня и Смирнитского. Ну, и счет, соответственно, принес нам, а не им. И такой, что все сбрасывались. Чтобы расплатиться. Вот как разыграл нас шутник-официант.
— Упомянули Евгения Моргунова... Вы написали о нем очень теплые воспоминания...
— Евген ушел, и его в жизни очень не хватает. Он пребывал в постоянной игре. И окружающих заставлял фонтанировать. Он звонил, если меня не было дома, надиктовывал на автоответчик новые анекдоты. Мне кажется, ему не с кем было последнее время общаться, он стал очень одинок. Не могу забыть его похороны. Ждал: придут толпы, чтобы с ним проститься. Он ведь дарил смех, хорошее настроение миллионам. А пришло очень немного людей. Для меня это было настоящее потрясение. Мне потом объяснили, что он со многими испортил отношения своими шуточками. Порой действительно грубыми и злыми. Юмор — опасная бритва. Но удручает: люди вообще не умеют быть благодарны. Я это и о себе. Незадолго до того, как Юрий Никулин лег в больницу, он через директора Дома литераторов Владимира Носкова попросил, чтоб я привез ему “Учебник Жизни для Дураков”. Он увидел эту книгу у Носкова, но она была с надписью. Эту бумажку, написанную его рукой, я храню. Я тянул, тянул, откладывал с визитом... Теперь уже не подарю никогда. Такое не дает покоя. Отложишь на неделю, а опоздаешь на целую жизнь...
Так все стремительно... Мы с Петром Спектором, когда погиб Дима Холодов, стояли у гроба Димы вместе с Владом Листьевым. Вышли, закурили и расстались, просто кивнув друг другу... Не знал, что это последняя моя встреча с Владом...
Когда делал на телевидении цикл передач “О чем пищат устрицы”, снял удивительные передачи и о Жене Моргунове, и о Сергее Владимировиче Михалкове. Михалков не хотел сниматься, говорил, что устал. Но все-таки пришел в Дубовый зал ЦДЛ, где проходили записи. Я выбрал рискованный путь: стал рассказывать ему о нем же, воспроизвел слухи, легенды о его встречах со Сталиным, Хрущевым, Брежневым... Вдруг он очень горячо стал рассказывать. Мы говорили почти два часа. Этой пленке цены нет. А ее на телевидении “затерли”, как они говорят.
— Вам эти свидетельства действительно кажутся драгоценными? Вот кто конформист до мозга костей, так это трижды автор гимна...
— Человек в минуту откровения может рассказать такое, чего никогда потом не повторит. Я приходил к Михалкову, когда он сидел в своей квартире совсем один. Всеми покинутый и заброшенный. Стороннему взгляду виден внешний блеск успеха, но жизнь складывается из разных периодов. Так вот, навещал его, когда он был, мягко говоря, не в фаворе. И он просил: “Посиди со мной, поговори...” И не отпускал. Люди говорят в двух случаях: когда хотят что-то скрыть и когда не могут не говорить, дошли до крайности. Внизу, возле его дома, в машине ждала девушка, которую я любил, а я не мог от него уйти. Это был не Герой Соцтруда, а очень старый, очень мудрый и многое испытавший человек. Именно подробности судьбы просто человека, а не идеологической фигуры в нем трогали. Он жаловался на предательство, на коварство тех, кто его окружал в звездные его часы, когда он был при власти, а потом его предал. Он рассказывал вечные истории. Которые и я сам не раз переживал. По-своему и в других обстоятельствах.
— Например?
— Из моих рук получали премии “Клуба “12 стульев” — все, начиная со Жванецкого... В то время лидерство многих в жанре было не столь очевидно, как сегодня. И я за своих авторов сражался, пробивал их публикации. Они оказались самовлюбленными, заботящимися в основном о личном преуспеянии людьми. Я на них очень обижен. Прежде всего за гуттаперчевость и прислужничество сильным мира сего. У меня, когда работал на 16-й странице “ЛГ”, были другие принципы и другие представления о чистоте и смысле жанра.
— Вас и тогда не устраивали примеры Сергея Михалкова или Бориса Полевого, который печатал вас в “Юности”? Да и многие другие наши писатели умело сотрудничали с властью и пользовались ее лояльностью.
— Играл в футбол с Валерием Шанцевым, когда никто не мог предположить, что он станет вице-мэром Москвы. Сидел в одной аудитории с Григорием Лернером, когда никто не предполагал, что его объявят главой израильской мафии и он будет брошен в тюрьму. В Израиле я познакомился с Сильвестром. Это — фигура, равная Аль Капоне, легенда, миф криминального мира. Он меня взялся подвезти в Нетанию на спектакль Михаила Козакова и Валентина Никулина. Я опаздывал, а Сильвестр сказал: “Хорошо, у меня стрелка по дороге, я тебя подброшу”. Он сидел за рулем, рядом с ним его “правая рука”, тоже очень известный бандит. По мобильнику они с кем-то все время связывались, дергали за разные ниточки: то в Америке, то в России. И главный их рефрен был: ну, че сидишь дома, надо деньги зарабатывать. А если человека не заставали — ну где же он ходит, надо же деньги зарабатывать. Они меня доставили к театру за пять минут до начала спектакля. Я не знал, как выразить благодарность, и сказал: “Может, хотите, вместе пойдем на “звезд”?” Они посмотрели на меня, переглянулись и страшно расхохотались. И я понял, что это — как бы продолжение разговора: какие театры, когда надо зарабатывать деньги!
Жизнь каждого человека — большой сюжет, состоящий из сюжетов поменьше. Внутри этих сюжетов, и это тоже мое глубокое убеждение, людей порой связывают отношения, которые они не всегда способны постичь. Но по прошествии энного количества лет произошедшее словно бы отвердевает в законченной форме — иногда простенькой, иногда причудливой, иногда притчеобразной. Борис Николаевич Полевой, возглавляя журнал “Юность”, печатал очень достойных людей, поддержал многих молодых писателей. Поскольку я еще и загульный был, первое, что он говорил, когда мы встречались: “Видел вас вчера в ресторане ЦДЛ. Не ведите светскую жизнь, надо работать, Андрюша”. Много было всяких поворотов в жизни. Но есть одна закономерность: в моей судьбе все, что устремлено в сторону от письменного стола, каждый раз почему-то отмирает. Если я увлекаюсь женщиной, которая не помогает мне работать, а мешает, эта связь обречена. Если возникает какое-то инородное занятие, то вдруг встает непреодолимая преграда, и я к нему охладеваю. Какая-то сила буквально толкает меня за письменный стол. И как там получается — плохо или хорошо — я не знаю. Но это то, что дарит мне радость.
— Всегда ли есть силы выбираться из наезженной колеи на просторы и колдобины неведомой и непредсказуемой жизни?
— Придерживаюсь точки зрения, что даже такая ерунда, как обжиг горшков, не обходится без божественного участия. А уж выбор будущего... Верующие говорят: “Бог посылает людей и дружбу в нужные мгновения”. Так и есть. Судьба дарит необходимых тебе посланцев, а от ненужных бережет и ограждает. Со мной много раз происходили вещи, не вполне поддающиеся обыденному, что ли, истолкованию. Происходило вмешательство в жизнь как бы свыше. Когда ушел из “ЛГ” и стало совсем плохо, наступил еще более страшный миг: маму с тяжелейшим сердечным приступом увезли в больницу. В безнадежном, как мне сказали, состоянии. Я был рядом с ней в так называемой карете “скорой помощи”. В реанимацию меня не пустили и опять сказали, что шансов очень мало, рассчитывать не на что. Вышел из приемного покоя, побрел по Пресне, до Восстания, перешел Садовое кольцо, возле Дома литераторов замешкался на троллейбусной остановке, тогда она там находилась, совершенно не зная, что делать дальше. Идти домой было страшно, там валялись расколотые ампулы лекарств, окровавленные бинты — маме никак не могли попасть иглой в вену... И тут рядом тормозит машина. Из нее выходит Павел. Он тогда недавно стал главным редактором “МК”. Что за силы его послали мне на выручку? Об этом я задумался значительно позже. Он меня не утешал, не успокаивал, это было бы глупо. Спросил: “Хочешь выпить?” Просто был рядом, вечером отвез домой. Я вошел, отважился войти в квартиру. Собрался с духом и позвонил в справочную, в больницу. Был уверен, что услышу страшное. Знаете, что мне сказали? Что маму из реанимации перевели в обычную палату. Я не поверил своим ушам. Спросил: могу ли приехать и на нее посмотреть? Было одиннадцать вечера. Мне разрешили — легко, я даже не особенно умолял. И я помчался. Убежден: всё в тот день было не случайно. И впоследствии судьба в самые трудные моменты выручала, посылая на помощь очень надежных и верных людей.
Ну а в тот день, когда мама так загадочно и быстро исцелилась, произошел кризис и моей болезни. Год после ухода из “ЛГ” я просто бродил по улицам и приходил в себя. Я не мог даже носить часы, потому что в прошлом у меня было такое количество ответственных встреч, куда я не мог опоздать ни на минуту, ни на секунду, что часы отбросил. Стал вести абсолютно растительный образ жизни. Смотрел вокруг, что-то пытался читать, но очень мало, потому что был отравлен чтением в “Литгазете”, когда нужно было все время что-то обязательное читать.
Пытался понемножку писать. Я храню свои черновики. Я могу сказать: то, что я писал тогда, было чудовищно. Это не потому, что сейчас я хорошо научился писать. Я настолько был отравлен, настолько внутренне исковеркан той жизнью, враньем, угодничеством, хитрованством... И спустя год во дворе школы, куда ходил в первый класс (в ней же учился Сережа Есин, с которым я одно время дружил, автор замечательной повести “Имитатор”, он поддержал рецензией моих “Ловцов троллейбусов”), я нашел часы. Зимой на снегу лежали часы. Удивительные. С дельфинчиком на циферблате. С желтеньким браслетом. И я понял, что возвращаюсь к жизни.
— Прожить несколько жизней... Не каждый может похвастать подобным. Но в запасе-то еще остаются сюрпризы?
— Надеюсь. Я закончил роман о любви “Бывшее сердце”. Получилась очень трудная и тяжелая для меня книга. Закончил пьесу “Люболь”, написанную в той же манере, что “Койка”, она будет напечатана в ближайшем номере журнала “Современная драматургия”. Эта пьеса о быстротечности времени и двух друзьях, которые не хотят этой быстротечности подчиняться, уступать, сдавать позиции. Если про “Койку” говорили, что она — о каждом сидящем в зале, то “Люболь” — о любовях, которые каждый болезненно переживает и каждый раз — словно впервые. Кроме того, закончил очень легкую комедию для двоих — мужчины и женщины. Название: “Койкер-спаниель, или Поход импотента в театр на “Отелло”. Самому было весело перелагать ее на бумагу, забавлялся, наблюдая за персонажами, которыми движет не только страсть, не только вожделение, но и, прежде всего, созвучие и единство душ. В перспективе — второй том “Учебника Жизни для Дураков”, к которым по-прежнему себя причисляю. Как обманут очередной раз — пишу очередную главку.