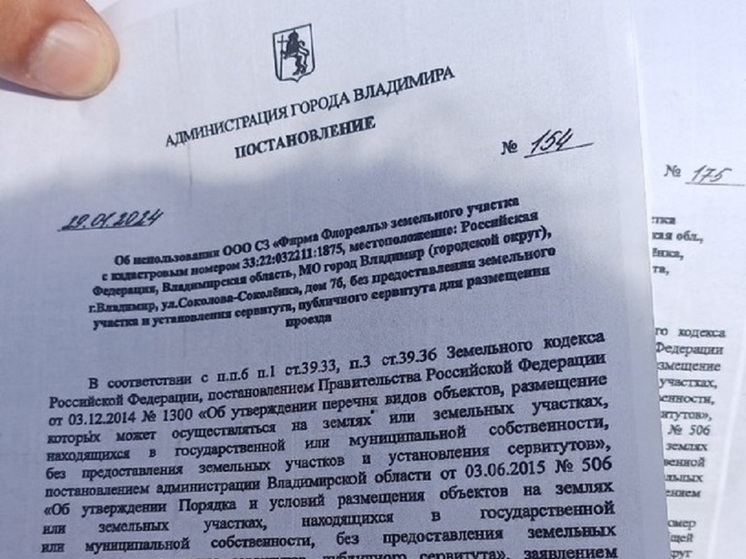Евгения Басовская
Публикаций: 0

У нас типичная семья периода пандемии. Муж потерял работу: на неопределенное время приостановился международный научный проект. Мы с сыном не отлипаем от компьютеров: он дистанционно учится, я дистанционно преподаю. Начав было возмущаться при виде нескольких чашек с чаем и соком в непосредственной близости от ноутбука сына, вдруг призадумываюсь: а моя-то чашка с кухни куда подевалась?

Я прекрасно помню 90-е — как было постоянно тревожно и при этом весело. Можно было придумать что-то почти безумное — и тут же осуществить. Так мы с коллегой, пока ели борщ, сочинили программу «Российский гуманитарный лицей», а уже через несколько месяцев начали набор в наш первый лицейский девятый класс. Позже выяснилось, что одна из лучших моих учениц узнала об открытии лицея из бумажного объявления, которое я лично прилепила с помощью клейстера на фонарный столб.

В марте университет перешел на дистанционное обучение. Мы оказались не готовы. «Мы» — это преподаватели 45+, уверенные пользователи доски и мела, те, в чьем активном лексиконе нет слов «прокачать» и «юзать». У нас не оказалось микрофонов и веб-камер. Перспектива установки на компьютер какого-то там зума вызывала ассоциации с полетом на Луну.

О том, что мир после эпидемии уже не будет прежним, не написал (причем несколько раз) только самый ленивый. И все-таки к этой, быстро сделавшейся банальной мысли трудно не возвращаться. Я, например, смотрю на глобальную катастрофу со своей лингвистической кочки. Мне интересно, как пандемия и ее разнообразные последствия влияют на русский язык.