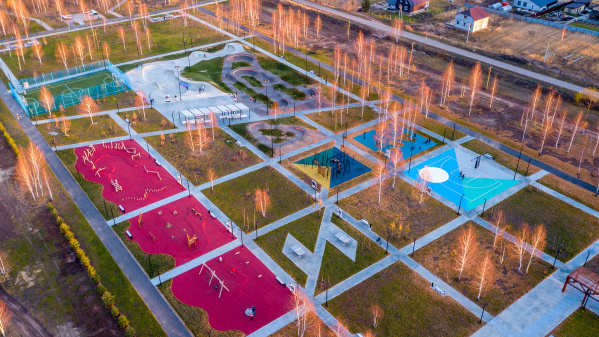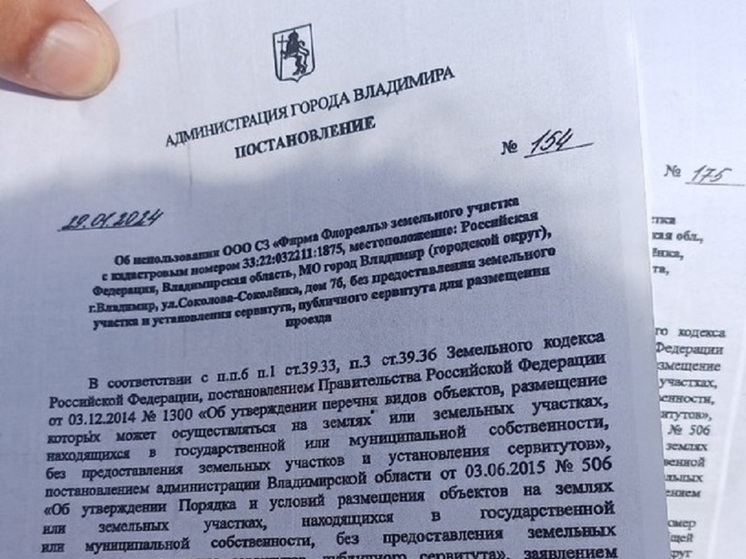«Мефисто» — театр в театре: на главную академическую сцену Москвы помещен немецкий театр — довоенный, до прихода Гитлера к власти. Актеры репетируют пьесу из русской жизни, что выглядит, как и положено, штампованно-смешно: царские кафтаны, кокошники, косы на плечах, бороды торчком и выпученные глаза их носителей, для пущей силы впечатлений помещенных в ладью. В репетиционном процессе проявляются характеры, обозначены расстановка сил в труппе, а также политические позиции — впрочем, штрихи, важные для истории «Мефисто», имеют изящный и точный абрис. Все, что не касается главного — искусства, театра, — здесь как бы впроброс. Зато театр явлен художником Марией Трегубовой (самая яркая в поколении 30-летних) с искусством отменного кондитера — жирно, сочно, с гламуром, глазурью и розочками, хотя ничего этого на мхатовской сцене и в помине нет. А есть только кулисы — из бархата всевозможных оттенков, от глухого болотного до слащаво-розового. Но впечатление...
«Мефисто» — спектакль глубинный. В том смысле, что имеет свой особый секрет погружения — простой, но весьма эффектный. Когда с каждой сценой новая кулиса под собственной бархатной тяжестью изгибается влево или вправо, как крепкий стан оперной певицы, то открывается новая картина. Пытаюсь посчитать кулисы — семь, десять или все-таки больше до самого задника? Не слишком ли крикливо-яркие для такого серьезного произведения, как роман Манна-младшего?

Действие, начавшееся непосредственно перед глухим занавесом (несколько коротких актерских монологов — от сплетен насчет приглашенной звезды до еврейского вопроса), к концу первого акта уходит почти в глубь мхатовской сцены, но... неожиданно отбивается экраном с черно-белым кино на ариер-сцене. Его черно-белая тема разовьется во втором акте, напрочь лишенном какой-либо театральности: в немецком театре, как и во всей Германии, наступили другие времена — черно-коричневые.

В центре — актер, режиссер, театральный деятель Хендрик Хефген, выстраивающий свою карьеру согласно законам своей профессии, которой он отлично владеет. Поэтому искусно притворяется, врет в глаза с наивностью даровитого ребенка, который даже конфуз может обставить как милую шутку жуира. Такого лицедея в первом акте и представляет Алексей Кравченко, мало похожий на лицо немецкой национальности. После спектакля режиссер на мой вопрос: «Вы сразу Кравченко утвердили на роль, или были другие претенденты?» — ответит: «Сразу. Мне нужен был по типу русский актер, а не западный. Такой узнаваемый типаж. Работа показала, что для Леши это оказался очень личный спектакль, он на четыре месяца отказался от всех съемок. Сегодня такие вещи становятся поступком, хотя когда-то это было нормой».

Алексей Кравченко, Николай Чиндяйкин и Станислав Любшин — три громких имени в спектакле, остальные — молодежь, которая выступает довольно крепким ансамблем, где у каждого есть небольшие партии, и тут нельзя не отметить Яну Гладких, Александру Ребенок, Ларису Кокоеву, Павла Ващилина, Артема Быстрова, Марию Зорину, Андрея Бураковского и приглашенную из «Сатирикона» не по-мхатовски темпераментную темнокожую артистку Елизавету Мартинес Карденас. Но главный все-таки Хендрик, то есть Кравченко, у которого до «Мефисто» в МХТ не было главных ролей. А тут бенефисная роль — по сути и исполнению.

Второй акт — вероломный режиссерский слом во всем: от оформления до игры актеров. От пестрых аляповатых кулис не остается и следа — голая сцена, где разместились небольшой оркестрик (музрук Роман Берченко) и артисты на венских стульях по широкой окружности. Мизансцены уже похожи на коллективную читку, где актеры выступают в двойном качестве — персонажей, а после возвращения на исходную позицию они становятся свидетелями падающей карьеры главного героя. Летит Хендрик не по шаблону падения негодяя с однозначным приговором: в нем добровольное унижение с судорожными попытками сохранить лицо и смятение: за ним же театр, люди. Как это должно быть знакомо многим руководителям у нас теперь, когда к горлу, как убийца с ножом, подступает выбор: скажем, подписать коллективное письмо в защиту или против? Участвовать художнику в избирательной кампании ведущей политической партии или сторониться ее, как чумы? А если сторониться, то кто тогда дорвется до власти? Вот что сыграл Кравченко с участниками нового мхатовского спектакля — невозможность ответов на трудные вопросы. Важно, что они в МХТ поставлены. Может быть, ответы знает постановщик Адольф Шапиро.
— Я вообще давно хотел поставить спектакль по этому роману. Давняя мечта, а тут МХТ предложил на выбор несколько пьес к постановке, но, честно скажу, они меня не вдохновили. Я зашел в театр, чтобы отказаться, — сказал, что не хочу. «А что хотите?» — спросили меня, я и сказал: «Мефистофель». И неожиданно получил согласие. Я очень благодарен Олегу Табакову за это.
— Вы много работаете в разных театрах Москвы, страны. Скажите, вам видно, вы чувствуете, как расколоты творческая среда, профессиональное сообщество? Или такое ощущение создают соцсети, где люди искусства выясняют отношения, не стесняясь в выражениях.
— Естественно, поляризацию мнений наблюдаю как никогда… Да, театр всегда был местом борьбы мнений, самолюбий, но я раньше такого не наблюдал. А сейчас жизнь как никогда проникает в поры театра. И даже, как мы видим, захватывает пространство перед ним. Но я не ставил спектакль про артистов сегодня. «Мефисто» — это жизнь театра и театр жизни, поэтому ставил про жизнь и про тех людей, которых видишь вокруг себя. «Мы не ставим исторический спектакль», — говорит мой герой. А для меня было очень важно, с одной стороны, уловить то, что происходит за стенами театра, а с другой, найти ту дистанцию, которая позволяет острее взглянуть на злободневность. Вот кажется, мы знаем про то время (приход Гитлера к власти) больше, а сами чувствуем сегодняшний день менее остро — вот в чем парадокс. Когда я делал инсценировку романа, для меня было важно перевести текст Манна в сегодняшний диалог, чтобы ощущалось дыхание дня. Месяцев восемь работал, и сложность в том, чтобы не стать рабом своего текста, а взглянуть на него по-режиссерски. Должен сказать, что у нас была хорошая компания.
— Вопрос о компании, а точнее, о работе художника Марии Трегубовой. Меня удивило и даже обескуражило цветовое решение первого акта, где она использовала десять кулис. Цвет аляповатый какой-то — это специально или проблема в качестве ткани?
— Кулис не десять, а 13, и это сделано специально, конечно: как бы игра на откровенном театре. Кулисы из хорошего дорогого бархата, отбивающие стремительность событий. И на фоне их аляповатости проявляется второй акт, принципиально иной — герой возвращается совсем в другую страну. Пока политика и исторические события не потребовали своего, он жил в мире мишуры, смены декораций: от оперетты до революционного театра. А потом жизнь жестко поставила его перед выбором. Мы ведь каждый день делаем выбор — обычно на короткую дистанцию, а когда от твоего выбора зависит жизнь других, то это дистанция куда длиннее.
— Ведь вам как никому другому эта дистанция известна: после развала СССР, когда Раймонд Паулс, бывший тогда министром культуры, одним росчерком пера закрыл ваш Молодежный театр, известный на всю страну. Труден был ваш выбор — уехать или остаться в Риге?
— Я всю жизнь стоял перед выбором. Это сейчас многие люди представляют жизнь в СССР как жизнь без выбора.
— Сейчас сложнее или тогда?
— Не знаю, по-своему было трудно и тогда, и сейчас. Просто тогда правила игры с разных сторон были четко сформулированы. Всегда кажется, что сейчас труднее, а тогда было просто. Все зависит от того, какую планку для себя задает сам театр. Но списывать все на обстоятельства — дело позорное и пошлое. И герой спектакля говорит, что время мы не выбираем, время выбирает нас.
— Вот как не скатиться при такой постановке вопроса в политический театр с митингом, чтобы потом гордиться, — это вот и есть самый современный театр — актуальный, публицистический. Дискуссия, объединение с залом — может, этого сегодня ждут от театра, Адольф Яковлевич?
— Я не делал публицистический спектакль, хотел этого избежать. В первом акте есть красота, но... до жути, до мишуры, где все смешивается и зритель путается, — это фрагменты из пьесы или из жизни? Он теряет грань между действительностью и искусством.
Вообще митинг напрягает: как его делать — кричать? Задача театра была и остается — не кричать, а осмысливать то, что происходит. Важно понять механизм — как метастазы тоталитаризма незаметно проникают в жизнь каждого человека. Мы были одни, но вот оглядываемся, а мы уже другие. Вывести человека из состояния душевной статики, из душевной лени — вот назначение театра. А митинга я совсем не хотел. Если бы хотел митинг, я лучше бы на него пошел.

— Мне в какой-то мере жаль главного героя, как жаль сегодня любого руководителя (не важно, чем руководит), который стоит перед выбором: подписать коллективное письмо или не подписать, ведь за ним коллектив, который надо, извините, кормить. А вдруг грант отнимут? Как тут быть? Я не могу позволить себе осуждать, клеймить.
— Это галилеевский вопрос. Ответа нет. Каждый выбирает сам. Но героя жалко. И мне жалко всех людей, которые скурвились. В такой борьбе человек и теряет себя. А вот мера личной ответственности важна. Ведь на героя все ж таки действует записка, которую он получил в кафе вместо счета: «За все, что случилось с моей страной, с вас 30 сребреников», — вот это важно.

Решение таких проблем стоит не только перед директором, худруком театра, но и перед актером: зачем он снимается в фильме или сериале, которые ему не по душе? Это все самообман: раз сделал, второй, третий, а на четвертый раз выходит к публике, а играть не умеет, штампованно мыслит. Видел много таких артистов, как отражался на них их выбор. Это спектакль не о сильных мира сего, не о директоре театра — это о нас.