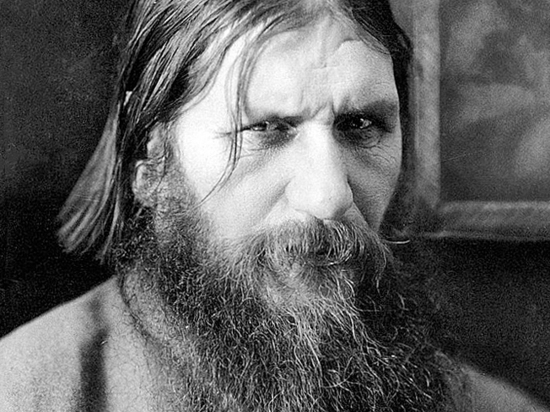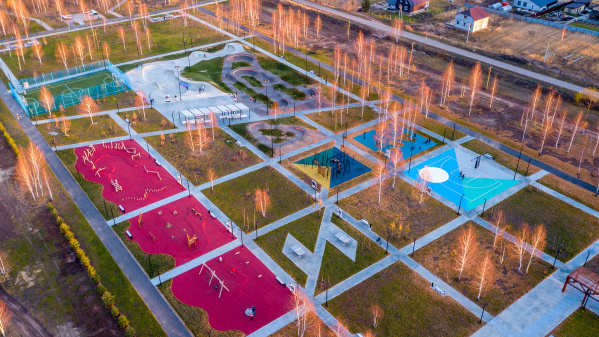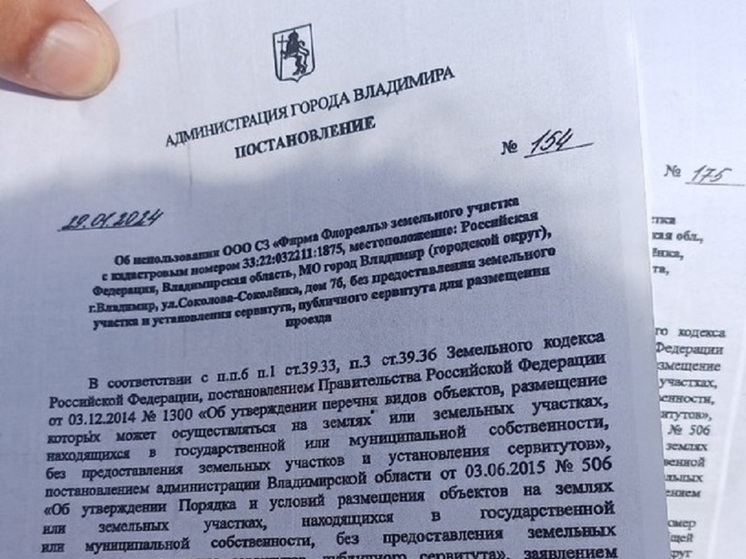«Сие сказал я вам, чтобы вы
не соблазнились: изгонят вас из синагог;
даже наступает время, когда
всякий убивающий вас будет
думать, что он тем служит Богу».
Евангелие (то бишь Благая Весть)
от Иоанна (16, 1-2),
переписанное Григорием Распутины
в тетрадь-собрание
наиважнейших изречений.
Часть первая
ЛЕВАЯ СТОРОНА СКЛАДНЯ: ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
ПУСТЫРЬ
Посреди белого пространства пульсировала точка. Ребенок пересекал заснеженный пустырь, проваливаясь и увязая в мягком пушном коварстве. Вырывался из проседающего плена и снова погружался в него, держа на отлете тягуче ноющую руку.
Несложно было перевести взгляд назад и увидеть случившуюся возле ледяной горки драку, услышать с хрустом произошедшее выкручивание запястья и щелчок перелома, заметить: вспыхнуло и начало разрастаться багровое пятно страдания.
Из вьюги устремилась – наперерез слепо торящему путь живому комочку – высокая женская фигура, облаченная в куцый вишневый полушалок: одна пуговица отсутствовала, вторая болталась на ниточке, располовиненное, не смыкавшееся на груди сердечко цигейкового воротника и истончившийся шарф пропускали холод, будто изрешеченная противником усталая армия; выеденная временем и молью колпаковской формы куньего меха шапка коромыслилась надо лбом кокетливо-приветливой арочкой и уравновешивала совершенно не дамского размера комично долгий нос обладательницы затейливого головного убора.
Большеносая спасительница вряд ли сумела бы объяснить, какая сила вытолкнула ее в метельную круговерть – из чрева теплой комнаты, где бубнил на тумбочке уроненный и расколовшийся, а затем воссоединенный из осколков и обмотанный синей изоляционной лентой пластмассовый репродуктор. Тихое жалобное поскуливание, воспринятое на значительном расстоянии, не заглушенное звяканьем соседской посуды на кухне и бессвязной болтовней ворочавшегося поперек продавленной кровати пьяного сожителя, преодолело – прежде чем коснуться чуткого уха – протяженность городской окраины, пронзило толстые кирпичные стены и проникло, вместе с посвистом сквозняка, в щели зашпаклеванного газетами окна, точно указав координаты бедствия.
Гудел ветер, жесткая крупа хлестала по щекам, заставляя жмуриться. Качаясь, скрипел на черной подгнившей мачте фонарь, увенчанный тарелкообразным, в сгустках наледи, эмалированным абажуром, похожим на лихо заломленную широкополую панаму загулявшего курортника. Металлический намордник, призванный уберечь стеклянный плафон и вольфрамовую артерию от камней и ледышек, пущенных хулиганами, казался подобием рыцарского забрала. Тень рыцаря-курортника, вздернутого на гнилой рее, понукаемая штормовыми порывами, то наваливалась (поверх зловеще горбившихся сугробов) на торец замыкавшего пустырь полуразваленного сарая, то проворно отпрыгивала вертким фехтовальщиком. Мир шатался вместе с несущимся в неизвестность пиратским бригом.
Заключив взывавшее о помощи человеческое существо в озябшие объятия, шутовски носатая каланча остановила безумную корабельную гонку. Ребенок приник к мягкой, пахнущей уютом и сельдереем ткани. Скачущий по пятам повешенный призрак прекратил выделывать широченные гопачные шпагаты. Мальчик шептал:
– Евфросинья…
– Все хорошо, Антоша, – отвечала она, прижимая его к себе.
Осмотрев набрякшую до ногтей синевой кисть ненаглядного второклашки и ласково приговаривая, нескладная заступница повела подопечного сыночка вдоль безлюдных запорошенных улиц.
Два крылатых стража, окутанные стройными монашескими рясами, реяли над бредущей парой, освещая путь сквозь пургу бледным лунным прожектором.
Убедившись: опасность не грозит припозднившимся пешеходам, охранители растаяли в морозной дымке – завещав опалово-червленому овалу, на котором истекал жидким мерцанием отсеченно-чеканный лик Иоанна Предтечи, излучать тихое, умиротворяюще струящееся сквозь клубы темных облаков благословение.
ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ ОБЛАКОВ
Пасмурным осенним днем, с букетиком фиолетовых астр, предназначенных Евфросинье, Антон топтался возле устланного лоскутами дерна холмика, недоумевая: куда подевался врытый много лет назад и тогда же выкрашенный серебрянкой (но, конечно, заметно облезший с той поры) крест? Может, труженики погоста – во избежание дальнейшего ржавления – увезли погребальный атрибут в ремонт? Но и соседние курганчики – рдевшие бархотками, подмигивавшие анютиными глазками, опутанные вьюнками с белыми грамофонными раструбами лепестков – сиротливо обезглавели: насыщенная мертвецами почва вобрала медальонно-орденоносные мраморные доски, поглотила скорбные статуи и пьедесталы. В песчаной взвеси мелькали и мозаично дробились гипсовые и керамические урны, кувыркались окультуренные гравировками валуны, сталкиваясь, обращались в пыль шары черепов и кегли костей, вспугнутыми рыбешками метались щепки гробов, полоскалась истлевшая одежда, капканно клацали лишившиеся хозяев вставные челюсти и бросались – со щучьей стремительностью – на проплывавшие звездчато-хвостатыми кометами блесны-пирамидки воинского мемориала.
Винтообразное смерчевое вращение разомкнуло – поворотом ключа в небесной замочной скважине – заслон туч. Останки, вытряхнутые из перевернутых вверх дном земельных опочивален, градом пробарабанили по графинчикам-часовням, карандашам-минаретам, буддистски размашистым, как высоковольтные вышки, пагодам и приземисто сейсмостойким синагогам. Разграфленные оградами делянки захоронений испестрилась фонтанчиками-плюмажами неугасимых лампад. Сияние храмовых куполов совпало с сусальным отсветом обелисков. Могильные плиты, притираясь, счищали с себя чешуйчатые фотографические нашлепки и доминошно сочленялись ломтями-глыбами разводных мостов. «Не по этим ли скальным уступам надо карабкаться, чтоб попасть в Копилку Господа?» – предположил Антон.
Ступени-ярусы всколосились многосценическим театральным действом: панорамные батальные массовки перемежались кадрилями церемонно обменивавшихся коронами и митрами правителей, битвы армий увенчивались альковными похождениями молодящихся дон-жуанов и нестареющих блудниц. Нижние склоны тонули в буйстве мезозойских хвощей и лиан, тут паслись динозавры и пикировали птеродактили, на серединном уровне, в выдолбленном водном резервуаре, кит поглощал Иону, а выше, на плацу-плато, Жанна д,Арк спорила с Наполеоном, Николай Второй (рядом с ним куталась в боа его супруга Аликс) принимал кавалеристский парад, по козырьку карстового амфитеатра блошино бегали Ленин и Сталин, за их перемещениями наблюдал в бинокль прятавшийся в одной из базальтовых выбоин Гитлер.
Совмещение надоблачной и подземной стихий перемалывало саркофаги и склепы. Бурлящий столб – внутри него рентгеноскопически маячила винтовая лестница – шагнул за пределы обнесенного литым чугунным забором некрополя. В месиве разбухшего рельефа тонули неповоротливо-пузатые троллейбусы и легковушки. Перебаламученная лава растекалась вдоль магистралей, фигурки пытавшихся выпрыгнуть из селя беглецов застывали в слоеном везувийном тесте – прилипшими к обливной глазури цукатами. Млечный путь низвергся в Гольфстрим, остров Пасхи вплавился в созвездие Тельца, подмосковные луга и озера охватили аметистовым ожерельем Кассиопею, сизый смог Лондона оказался разодран в клочья сполохами северных сияний. Церкве-окольцовывающие праздничные шествия крестных ходов радугами ярчайших спектральных оттенков – от карминно-оранжевого до туманно-белесого – образовали, вскладчину с ковшами Большой и Малой Медведиц, сводчатй арочный тоннель, знаменующий невозможность отклонения или отступления вспять и указывающий единственную дорогу – в Божье Царство.
На потешных подмостках возник целящийся из парабеллума в Гитлера лихой красноармеец Ойтыгойеси Василий Панюшкин. К Успенскому собору Кремля двинулся через Спасские Ворота никогда не виденный Антоном прадедушка – Виссарион Петрович Былеев. Выщербленный винтовочными пулями майоликовый образ Вседержителя фресочно осенял серо-изумрудную, цвета недоваренных раков мощеность площади, в отполированной брусчатке которой отражалась бордовая, тянущаяся аж до закованной в гранит Москва-реки стена, нафаршированная заключенными в траурные кубки прахами. Матрасно-полосатая драконья храмовая многоглавость Василия Блаженного анархистски разнообразила византийскую надменность древнего ландшафта и нивелировала низколобость угловато и не по чину впрыгнувшего в потеснившийся патриархальный уклад выскочки-мавзолея.
Веселые воздушные шарики сбросивших телесные оковы человеческих душ, шаловливо виляя хвостиками-постромками, ловко уворачивались от снующих в прогретой солнцем лазури авиалайнеров и запущенных в научных и военных целях космических кораблей. Покружив над вселенским всесмешением, взмывшая стайка приопустилась и охватила Антона невесомой гамачной сетью. Астры выпали из рук невольного путешественника и спарашютировали к подножию Почтамта Плача – молельни, возведенной Пинхасом Фиалковским.
НЕ ТОТ, КОТОРЫЙ НУЖНО, ТОТ СВЕТ
Не такой, совсем не такой рисовалась Евфросинье хваленая воскресительная надоблачность. Воображала: обласкают, умиротворят, окажут помощь (превентивную и последующую, столь необходимую свежепреставившимся). А столкнулась с полнейшим безразличием и повальной грубостью, уж не говоря о вопиющей некомпетентности – ни тебе щадящего санаторно-курортного режима, клюквенного киселя и сдобной булочки на полдник, ни удобного (вообще никакого!) перечня занятий по интересам, ни познавательных экскурсий и гуляний в парках, концертов духовых и струнных оркестров, песнопений в клубах при домоуправлениях и на природе, викторин и конкурсов на свежем воздухе… Игра на лютне чересчур прихотлива, от подобных изысков намеревалась отказаться, но не прочь была записаться в благонравный, не обязательно старушечий ансамбль: хороводы, баян, а по окончании репетиций тары-бары и посиделки, плюс возможные в отдаленной перспективе выступления перед публикой в больших светлых актовых залах, чаепития с кренделями, пряниками, сушками… Допускала пляски – не разухабистую «комаринскую» и нескромную «присядку», а плавную «лебедушку» или забористую, с притопом и поигрыванием плечами «цыганочку», не отвергала овладение – в сдержанном, разумеется, проявлении – основами балетного мастерства.
Наверстать упущенное – вот о чем мечтала. Слишком многое оказалось неисполненным, недозавершенным (и не начатым), отодвинутым на потом. В деревенскую бытность поднималась спозаранку, обихаживала живность, горбатилась в поле, какие уж тут утехи; в городе перевыполняла план, изматывающе мотала нескончаемые волокна нитепрядильной сферы – опять не до частушек и танцулек, правда, швейничала ночами, наимоднейшим, по выкройкам журнала «Крестьянка», кофточкам завидовала сама секретарь комсомольской ячейки.
Грянула война, под воюще-ноющие, как зубная боль, предбомбежные вопли сирены клепала в три смены на секретном заводе в Филях противотанковые снаряды, не отходила от станка – при круглосуточном аврале не развлечешься! В партизанском отряде, куда вступила после бегства из особняка на Большой Никитской, обрела навык ухода за больными, он пригодился в наставшей мирной жизни: трудилась медсестрой, а ближе к пенсии – нянечкой в больнице и школе, наводила чистоту в учебных классах и приемном покое, подсобляла детям и хворым старикам, свои (порой безотлагательные) нужды комкала, урезала, отшугивала, будто кур от крыльца – никуда не денутся. В церковь наведывалась урывками, не дослушивала проповедь, не причащалась, не удавалось обратиться к Всевышнему безоглядно, замереть в благоговейной отрешенности перед алтарем – спешила, постоянно спешила: к недужившей матери, к любимому инвалиду Федору, к заветному Теплому Камню на пустыре, а в прислужницах у министра Хейфеца – на рынок и в магазин, чтоб стряпать завтраки, ужины, обеды для верениц гостей… Витавшие под сводами храма гимны воздевали в запредельность – но заречитативить вместе с батюшкой и его сладкоголосыми подпевалами не получалось, а так хотелось делегировать восторг в общий слаженный порыв!
Не пренебрежение ли соборностью (и несоблюдение страстных седмиц, четыредесятниц, крестовоздвиженского и яблочного поста) аукалось ей теперь? Полагала: в послесмертной жизни вдоволь насытится хоралами-мадригалами и собеседованиями с угодниками, а уж встречу с теми, по ком соскучилась: мамой, папой, Федором – мнила всенепременной... Ан нет! Осиянные выси не вознаградили ни причитающимся (ведь причитающимся?) воздаянием за безотдохновенное непокладание рук и неустанную побегушечность (отъем небесных увеселений и блаженной послеобеденной дремы – полбеды), ни церквами, где можно вслась помолиться, но куда сильнее удручило: любимый Федор не встретил возле Райских Врат, хотя условились – будет ждать неотлучно! В предкончинной судороге Евфросинья предвкушала: он дежурит, нетерпеливо прохаживается – близ увитых белыми лентами олив и триумфальных арок – с букетом (а, может, затепленной свечкой?), чтоб позвать в отведенную им двоим светелку…
Но ни свечечки, ни букета, ни истосковавшегося Федора, ни приветственных аркад (да и Райских Врат!) не узрела из экспресса – по пути следования вдоль гряды курившихся синеватой дымкой сопок – смущающе смахивавших на бетонно-серые конусы градирен ТЭЦ. Хорошо, что не возле этих холмов-вулканов тормознул длиннющий многоместный драндулет, переполненный пассажирами, и шофер с люминесцентным нимбом над кучерявыми с боков пролысинами объявил: «Дальше не едем!». Поднялся гвалт. Евфросинья улавливала в недоуменно-растерянном многоголосье немецкую гортанность (помнившуюся с окупационных лет), мягко-округлую румынскую напевность (румыны приходили на дипломатические приемы в непальское посольство и долго балакали под окнами дома в Неопалимовском переулке), плавно, как вода в Днепре, текла украинская мова (из хохляцкого хутора происходил дружок Федора летчик Сергей Тарахтун), ершисто топорщилась грузинская темпераментность (на родном мингрельском клялся Евфросинье в любви потерявший из-за нее разум очкастый змеежаб Лаврентий Берия), кактусными иголками покалывала мексиканская тарабарская сомбреристость, куросавилась японская кашеобразная невнятица (ее прежде слышать не выпадало, но фонило – будто в рубке киномеханника из виденного по телевизору фильма о Дублине, дублированного в кинотеке узкоглазой страны)...
Покинув автобус, Евфросинья неуверенно озиралась.
– Где Врата? Или хоть умыться с дороги?
Прохожие от нее шарахались. Лупоглазили и не отвечали. Росла тревога: «Федор ждет!». Солнце шпарило. Тротуары и мостовые изопрели в испарине. После долгой дороги кружилась голова. Но воздух, прохладный и сухой, тонизировал. Заслонясь ладонью от палящих лучей, Евфросинья вбирала пьянящий коктейль луговых и садовых ароматов и гадала: что за привкус щекочет ноздри – скошенного клевера или сочного ревеня?
Стрелочки на столбе с надписью «infо» навевали оптимизм: «К спорткомплексу», «Высокогорье», «Проспект Данте», «Площадь Марии Магдалины», «Музей-квартира Джубана Мулдагалиева»… Впрочем, некоторые направления озадачили: «Прошлое», «Будущее», «Голгофа»… «Освоиться – и постепенно вникать. Поочередно всех найду, – успокоила себя она. – Наверно, каждому предписан свой оздоровительно-отдохновенный отсек (в зависимости от особенностей биографии и личных пожеланий, маме и отцу – не тот, что герою войны Федору). Федор, мама, бабушка не могли не встретить без уважительной причины! Но нереально, чтоб худое приключилось сразу со всеми».
И другие аргументы в пользу неволнения наскребла: «Преогромное количество душ взмывает ежедневно… Не исключено – сама напортачила: угодила не в тот, который нужно, рай. Не на той остановке вышла из экспресса!».
Улица, по которой выбрала идти, привела к огромной, запруженной колыхавшимися толпами площади, окаймленной помпезно-тяжеловесными зданиями – с колоннами, портиками, античной лепниной: выпуклые вставшие на дыбы кони, вооруженные мечами и пиками всадники, горбоносые спартанской аскетичности сопровождающие мужей женщины... Красовались вывески: «Суд», «Следственный комитет», «Прокуратура», под ними пестрели буковки меньшего размера: «гражданский», «третейский», «кассационный», «арбитражный»… Всколыхнулись опасения: переизбыток карательно-дознавательных учреждений не сулит безмятежности…
Вгоняли в ступор и ухмылки, с егозливой неприкрытостью источаемые встречными. Из-за чего смехуечки (сохальничал бы Федор)? Известно: внешний вид – плод обстоятельств. В ножки надо поклониться соседкам (а не лыбиться!): скинулись, чем богаты, и выручили – пусть коротковатым, для выпускного бала, десятилетней давности, зато белым газовым платьем (чьей-то внучки), истертой кофтенкой и штопанными-перештопанными чулками, латанной-перелатанной, с дырявым подолом бязевой ночнушкой (расползается и едва покрывает плечи, зато мягкая и приятная!); седые лохмы недоуложены, но до перманента ли – на смертном одре? Жаль, гребешком для волос не снабдили, снаряжая в последний путь, заботливые товарки, но без парикмахерской завивки при гибельном форсмажоре можно обойтись… То, что веет от нее, женщины, мужским одеколоном, опять-таки следует зачислить в плюс: истопник Егор – великое спасибо! – пожертвовал на омовение пузырек «шипра». Гроб сварганил на мебельном комбинате из неструганных досок тоже соседский родственник, иначе не похоронили бы по-людски – даже плохонький гробишко стоит денег, а где их взять?
Дверь квартиры Евфросиньи не запиралась: в любой час ей несли гостинцы, кормили с ложечки, читали вслух, ввинчивали лампочки взамен перегоревших. Дольше других задерживался у постели болезной подружки истопник Егор. Устроившись в истертом кресле, Егор откупоривал фунфурик «Кубанской» и, бормоча: «У меня глаз-алмаз», цедил точно 50 грамм амброзии в опоясанный надписью «Алушта» поильник, бессменно украшавший прикроватную тумбочку. Заводил речь о конфликте с начальником домовой конторы, об автостоянке, подмявшей приподъездный газон, о протечке старых труб и о крысах, обгрызающих теплоизоляцию…
Евфросинья по-своему участвовала в застолье: кивала, прижмуривалась и, если Егор подносил чашку с изображением Микки Мауса, полнехонькую свежей кипяченой воды, делала глоток. На большее парализованной компанейскости не хватало. Но и малой толики безыскусной приязни хватало истопнику для продления сорокаградусной откровенности: Егор выплескивал в поильник остатки водки и, пригубив, повествовал о шелапутной дочери и нечуткой супруге, требующих от него, трудяги-добытчика, кристальной трезвости. А вот дочерние порочащие девичью честь поздние гуляния жена не пресекает!
Евфросинья силилась огласить: святость обретается не одномоментно, а по мере усыхания и сморщивания страстей. Но язык плохо ей повиновался.
То, что Егор пользовался для назюзюкивания лекарственной емкостью (а не грудившимися в серванте рюмками, кои с течением времени поменяли амплуа и несли не алкогольную, а мензурочно-микстурную нагрузку), будоражило Евфросинью сильнее кагора и пузыристого сидра. Поильник с вкрапленной в фаянс надписью «Алушта» напоминал о дивной поездке с одноногим Федором в летний Крым: собес выделил инвалиду бесплатную путевку, и великовозрастные молодожены провели на черноморском берегу незабываемый медовый месяц.
Та курортная идиллия (прообразом близкой райской неги) встала перед темнеющим взором, когда земная, изнурительная, но такая привычная, неотделимая и, пожалуй, увлекательная судьба приблизилась к финишу. Сгущался вечер, рядом не было никого, кто мог отогнать или уменьшить нахлынувший страх. Лишь утром соседки нашли ее, остывшую и скрюченную, под тонюсеньким байковым одеялом. «Отмучилась», – шептались они, словно боясь разбудить усопшую.
Даже крестиком, нательным оловянным крестиком облагодетельствовали Евфросинью сверхдобрые плакальщицы: оттерли нашатырем валявшийся у Егора без надобности – в ящике для столярных инструментов и фурнитуры, приискали там же тяжеленькую медную цепочку. Всеобъемлющая признательность наполняла каждую клеточку холодеющего нутра. Хотелось дать знать провожальщицам – о теснившем ребра пугающем ненаступлении блаженства (его твердо предрек соборовавший священник), беспокоило: как произойдет воспарение после бездыханности и предстояние перед Господом? Но разомкнуть неповиновавшиеся уста не получалось.
По прибытии в небесную епархию волнений прибавилось.
Киоскеры натыканных всюду консультационных будочек (особенно густо разнокалиберные кабинки группировались близ площади Правосудия) не устремлялись (не шли и не летели) навстречу мертвецки не выспавшимся внутри гробов и не знавшим, куда податься, переселенцам, наоборот – отнекивались, отбрехивались, отлынивали, категорически отказывались исполнять свой профессиональный ангельский долг (и наверняка вмененные им инструкции!), не желали лишний раз взмахнуть крыльями – для того и данными амурам, херувимам и серафимам, чтоб скоростно и без проволочек обслуживать клиентов! Обленившиеся лодыри под всяческими предлогами уклонялись курсировать меж разноудаленными инстанциями, им в тягость было архивничать и листать длиннющие (что верно, то верно) реестры староумерших. Не каждому потребна такого рода статистика, но проявляющие настойчивость заявители вправе же ее получить! Недомолвки, гримасы, ужимки, вранье по мелочам и крупномасштабное – вот с чем уже на ранних стадиях вживания в воображавшуюся манной райскую вожделеннось пришлось столкнуться Евфросинье!
Поначалу, пребывая во власти прекраснодушия, улыбалась крылатым тунеядцам, заводила с ними чистосердечные турусы – ведь на том свете, как в бане, все равны, но, обжегшись о нескрываемый саботаж (да что там – о наглое вредительство!), умерила пыл. Подмазываться – даже ради первейше необходимого: ордера на жилье или мало-мальски сносного облачения – постыдно, тем более, халтурщики-отшиватели-отпихивальщики намеренно и целенаправленно, без малейшего зазрения попирали просьбы: «Тебе не положено» – а почему? Не дворец с фонтанами, не хоромы с озелененной лоджией выклянчивала, не замшевый плащ, не прозрачную тунику, не цветастый тонкорунный, до пола, сарафан (и, соответственно, не прилагаемый к нему расписной кашемировый кокошник) – именно в таких щеголяли фланирующие по проспектам расфуфыренные чувырлы (видимо, представительницы высших каст), не претендовала на парчу и шелк, не гналась за хитонами с бисерной оторочкой (в далеком прошлом остался азарт копировать модные журнальные выкройки)… Удовольствовалась бы универсальным демисезонным рубищем: мешковатой робой или похожей на больничный халат блузой, в каких мельтешило большинство старожилов (они и точно походили на пациентов гигантской клиники)… Однако сутяги (сами – в пропыленных балахонах и затертых сатиновых нарукавниках) отказывали даже в элементарном.
«На что обижаться? – самоутешалась Евфросинья. – Невелика барыня, чтоб передо мной стелились. Какой была в прежней жизни – такой осталась. Там тоже не расшаркивались. Событие смерти – не повод для проявления повышенного внимания к упокойцу». Но примириться с пренебрежением и отфутболиванием не могла.
Киоскер, водрузивший на захватанный нимб (как на шляпную подставку!) чарли-чаплинский котелок и поигрывая общипанными бровями, напрямик предложил: «Крест и цепку – за комнатенку»! Евфросинья вскинулась, оскорбилась, пригрозила предать факт вымогательства огласке, ангел не струхнул: «Я сам себе ревизор».
Схожий с ним ветродуй (его умасливала, чтоб научил грамотно обратиться в комиссию по найму сиделок к инвалидам: там могли знать о Федоре) нарочно дезориентировал, спровадил (а она поверила) – в многоэтажный корпус с бассейном и бильярдом, с благоухающим черешневым садом, где в махровых полотенчатых тогах расхаживали и возлежали на шезлонгах омерзительно надменные спесивцы. Всем видом давали понять: ты – не нашего поля ягода, катись подальше, рванина в обносках!
По-христиански ли (по человечески? по ангельски?) – хулить, позорить, гоготать? Тыкать пальцами? Изгонять? (Иисус бы так не поступил!). Ее пронзило: райские угодья сплошь захвачены чванливыми бонзами и жлобами! Запоздалым эхом отозвалось предостережение Федора: «В раю увидишь не тех, кого рассчитываешь там встретить». Несбыточными (и прискорбными) предстали иллюзии: приверженцы волшебного грааля – покладисты, отзывчивы, кротки! Как бы не так: и в небесных рощах (схоже с земной скудостью) задарма не уступят ничего, а освищут и оберут.
Уходя из мерзкого профилактория, столкнулась в дверях с обмотанной индийским сари загорелой (будто с пляжа возвращавшейся) мымрой: наманикюренные ноготки, а на цирюльничьи ухоженной башке – усыпанный аметистами тюрбан, опахало – павлиний хвост. Страхолюдина столь ястребино уставилась на выпроставшийся из-под бязевой ночной рубашки крестик, что Евфросинья проворно сомкнула ворот и прижала вероисповедальческий знак ладошкой к груди (лишь под его защитой ощущала себя и свою религиозную принадлежность неуязвимой!). Окончательно уверилась: вокруг шляются-шатаются (оттеснив праведников, при том, что святых, безусловно, всегда и везде больше, только набрести на них удается не сразу), возводят очи к небу (хотя на небе и находятся), сплевывают себе и остальным под ноги (оскверняя ареал первозданной чистоты!) не опрозрачневшие безгрешцы, а горлохваты-аспиды! Пусть в тогах и в кожаных сандалиях, пусть перебирая холеными перстами гранатовые и барбарисовые четки, но внутренне, да и внешне замаранные. «Видимо, это еще не рай (не может быть рай бездушным!), а дальние его подступы, потому преобладание и повышенная концентрация проходимцев объяснимы: пресветлые Георгий Победоносец и Александр Невский, матушки Матрона Московская и Ксения Петербургская издревле отмечены расположением Господа и, благоухая миррой, в сияющих доспехах добродетели, допущены к Его престолу, а стяжателям и властолюбцам не подладиться, не подступиться к Всевышнему, вот и пихаются, проталкиваются к стопам Вседержителя – никто никому в их круговой свалке не помощник, все – соперники и выжиги, готовы лгать, подличать, порочить, лишь бы обскакать конкурента и ухватить лучшую, чем у него, долю. С потрохами сграбастанные завистью пачкуны вымещают неуверенность шаткого своего положения – на умиротворенцах».
Залогом восстановления справедливости выступали суды, повсеместные суды, недаром судов неисчислимо много – воздастся каждому: проштрафившемуся и непогрешимцу – по делам его – с максимальной объективностью!
В отделе Общей Регистрации, куда Евфросинья зачастила (и в разветвленных коридорах которого с нетерпением ожидала пунктуального обсуждения своих нужд), ее – с плохо сдерживаемым раздражением – отлаяли: льгот (информационных наравне с бытовыми) удостаиваются сумевшие доказать (в поэтапных прениях и с предъявлением документов, заверенных треугольными штемпелями) безгрешность собственного наземного бытия, допреж того посягательства на жилищное, одежное, разъяснительное довольствие неэтичны.
– Сколько времени займет разбирательство? – хотела узнать она.
– Зависит от загруженности судей и адвокатов. Но куда торопиться? В твоем распоряжении – вечность!
– Ну и соизмерения! – отчаялась Евфросинья. – На пользу ли нескончаемые протяженности?
Посоветовали:
– От пережитка скепсиса избавляйся! Он приравнен унынию.
Выпутавшись из липкой конторской паутины, Евфросинья брела к маячившему в отдалении архитектурному чуду, очертаниями напоминавшему Новодевичий монастырь, но похожему еще и на могучую гору Полунарува, про которую не знала ничего, но догадывалась: именно так эта гора должна выглядеть.
Благоухали рыжие настурции, белоцветный жасмин ластился к розовощекому олеандру, молодые березки производили впечатление недавно пересаженных с лесной опушки. Меж георгиновых клумб водили хоровод облагороженные сиреневыми мантиями, не похожие на ангелов (а на кого тогда похожие?) химеры. Вдоль узорчато подстриженного газона прохаживался златокудрый красавец со связкой ключей (и позвякивал ею). Подойти к стражнику Евфросинья не отважилась, опознав в нем – благодаря поразительному сходству с изображением, на которое молилась, – первейшего апостола.
Девочка со злым лицом прыгала через скакалку. (Почему малая кроха без присмотра? Где родители? Или сирота?). Евфросинья собралась погладить прыгальщицу по русой голове, но та скользнула в прощелину меж лозами дикого винограда и тонко-стручковой акацией. «Стало быть, весна или осень», – определила Евфросинья, помнившая, что преставилась в декабрьскую стужу. И тоже протиснулась в прореху. Узрев в сгустившемся мареве лавочку под серебристым тополем, испытала неясную отраду: тополь и скамейка, а также разбросанная меж корневищами кустов шелуха семечек воспроизводили (в приблизительной похожести) укромный уголок, где любила сиживать в жаркие дни с Федором и где он, дымя сигаретой «Дукат», вдохновенно читал ей стихи. Лавочка дарила возможность перевести дух. Евфросинья опустилась на прохладное сиденье.
Ангел с полыхающим взглядом горящих угольями очей навострился к ней.
– Предъяви разрешение посещать примонастырский парк! Да еще в непотребной хламиде!
На правом его крыле, плотно охватывая упругие перья, пламенела кумачовая повязка с надписью: «Надзор». Второе крыло обезобразила наколка-тату: Христос, распятый на излишне длинном кресте.
– Другой одежды ведь не допросишься, – оробев, огрызнулась Евфросинья.
Он не взъерепенился, а продолжил предвзято:
– Какое отношение имеешь к поезду особого назначения, ехавшему по приказу самодержца российского, последнего государя династии Романовых в Крым, да сделавшего внезапную остановку?
Евфросинья пролепетала:
– Никакого.
Заглядывая в самые глубины ее оцепеневшего от страха естества и пронзая трясущиеся поджилки полыхающим взглядом антрацитово поблескивающих зрачков, ангел навис над ней:
– Что ведаешь о провидце Григории Ефимовиче Распутине?
Сердце заколотилось бешено и пустилось вскачь, будто растреноженный конь, будто впрямь что-то знала, но намеревалась скрыть.
– Не слышала о таком, – прижав руки к груди, выдохнула Евфросинья. – Лучше скажи, где Федор…
С осуждением покачал головой ужасавший неистовостью блюститель дисциплины. В испепеляющем его взоре Евфросинья различила языки костров и обугленные человеческие остовы. Два ангельские глаза – словно два маленьких телеэкрана, затянутые рябью, мерцали ровно, демонстрируя на левом бельме инквизиторские камеры пыток, на правом – покорно входящих в крематорские печи доходяг, подгоняемых прикладами конвоирских автоматов. Рычали овчарки.
Убедившись, что кинохроника усвоена зрительницей, ангел прекратил сеанс, выключил находившийся в затылочной части головы проектор и повторил:
– Так-таки не знаешь? О поезде, что вез государя в Ливадию, да остановился близ городка Златополь?
Ни устрашающий вид дознавателя, ни собственная обморочная слабость не поколебали твердость, не заставили Евфросинью покривить душой.
– Имей в виду… – Ангел грозил выпавшим из крыла пером, похожим на узкое лезвие ножа. – Если пытаешься что-либо скрыть…
ЦАРСКИЙ ПОЕЗД
Восемь небесно-голубых вагонов, омедальоненные золочено-солнечными эмблемами двуглавых орлов, медленной гусеницей уползали от Царскосельского перрона. С платформы, в неярком свете холодного – мнилось: простуженного – петербургского утра, вслед набиравшему скорость составу махали кружевными платочками дамы в повойниках во главе с грузной Анной Вырубовой, волны пышно-штормового наряда не скрадывали налитую обширность ее крестьянски широких плеч и палубную перпендикулярность поддерживаемого корсетом бюста; воинственно сверкал позумент генералов, плеснево цвели ордена на черством партикуляре штатских; гроздь отяжелевшей придворной переспелости (у иных ягод – до изюмной сморщенности) крупным рубиновым карбункулом багрянил ярмарочно-лубочный Григорий Ефимович Распутин в шелковой бордовой рубахе, опоясанной белым льняным шнуром, в черных высоких лакированных сапогах. Тобольский старец (вот уж не почтенного, а верткого, без единого седого волоска возраста) картинно кланялся удалявшемуся поезду, осенял уезжавших и остающихся щепотьями благодатных крестных знамений.
Изъеденный промозглостью северной столицы механический червь увозил в устланном коврами нежном чреве – помимо блеклых лиц, дебелых телес и затхлой атмосферы чинопочитательства – шумные отзвуки оркестрованных балов и эхо все чаще громыхавших и уносивших высокопоставленные жизни взрывов и выстрелов: даже теперь, в мягкодиванных баюкающих люльках, участники увеселительной кавалькады не смели предаться безмятежности, любой не взятый на мушку представитель власти (пусть отрешившийся на время поездки от бюрократической рутины) мог превратиться в мишень. Нынче пуля или свинцовый осколок миновали тебя? Но чего ждать завтра?
Хаос уверенно овладевал Россией. А представлялось: стоит изъять – всего лишь на сутки, краткосрочно (ради приволья теплого Крыма!) – пустоголовых паяцев из унылейших (мухи дохнут от тоски) присутствий – и напыженная показуха схлынет, порядок восстановится, государство воспрянет… Нет, откочевав (недельно или минутно), малозначительные винтики и тягловые рычаги казенного аппарата продолжают (каждый на свой коленкор) упрочивать косность и перечить оживлению – в том и заключается магия управленческой мистики: сановник дремлет, считает ворон, дуется в карты, принимает воздушные и водные ванны (у себя в квартире или на морском берегу), а скороспелые взаимоисключающие распоряжения множатся-самопроизводятся, змеясь, кругооборачиваются, опутывая по рукам и ногам лаокооновыми полосками телетайпных лент подневольных граждан, шлепают перепончатыми лапами доисторических чудищ из учреждения в учреждение, плодят интриги в кулуарах заседаний и бархатно-батистовых будуарах, где, собственно, и зарождается, и творится внутренняя и мировая политика, намечаются поворотные события и предпринимаются зигзаги перемен. Быть причиной и одновременно жертвой происходящего – удел возомнивших о себе двуногих смертных.
Так думал, укутывая колени клетчатым шотландским пледом, регент Успенского собора в Кремле Виссарион Петрович Былеев. Ни усыпляюще мерный перестук колес, ни долгожданное уединение (относительное, впрочем: из коридора проникали в купейный узкий пенал приглушенно-возбужденные голоса и табачный дым), ни перспектива близкой крымской неги не рассеивали смятения – стоило смежить веки, и, поверх занавеси ресниц, возникали, как в кабаре теней, искаженно-уродливые физиономии попутчиков, исторгавших каверзные, полные двусмысленностей речи, в карусельное вращение вторгались сцены предотъездной перепалки с сыном и пугающее напутствие Распутина: «Иначе государю не выдюжить. Вверяю тебе, Висса, заботу о нем!» Скверные предчувствия стискивали сердце. Что имел в виду мятущийся провидец?
Не беда, коль оступится в извинительном неведении недалекий (но осторожный) городской обыватель иль наворотит (в пьяном угаре) дуроломств беспробудно дремучий подневолец-смерд: случайных (и не столь уж опасных) отщепенцев одернут урядник и батюшка в церкви, отрезвит затрещина сородича; куда непоправимее (и непредсказуемее) заблуждения монарха – никому не подотчетного, не ограниченного в правах и неизбывно колеблющегося, обремененного (вдобавок к необходимости торить стезю великому народу и в дополнение к преждевременно выпавшему из рук внезапно почившего предыдущего царя скипетру) печалью о занемогшем малолетнем наследнике. Проклятьем и обузой обернулась для Николая Александровича не дающая передышек самодержавная страда.
Саваном суеверий (но – вздорных ли? не дающих повода удручаться?) окутан несамостоятельный государь: день его рождения пришелся на празднество поминовения Иова Многострадального, Николай Александрович запнулся на этом совпадении: «Царствование мое получится трагичным. Жребий мученичества выпал и первому русскому патриарху, нареченному Иовом, его схватили – во время молитвы! – приспешники Лжедмитрия и заточили в Старицкий Монастырь, где он скончался от побоев. Людовик ХVI короновался в день мученицы Агнесы и гильотинирован ровно девятнадцать лет спустя – в день святой Агнесы!».
Царю ли, выпестованному многовековой династией, предводителю громадной империи, столпу правящей европейской когорты (один кузен – король Англии, второй – кайзер Германии), грязнуть в предрассудках, холодеть от сновидческих аллегорий, окружать себя юродствующими кликушами и колдунами? Но тем, кого Высшая Воля сопрягла с жертвенным уделом, на роду написано быть оглядчивыми фаталистами. Осязаемо всамделишны, а не эфемерны обступившие Николая Александровича (с первых мгновений его царствования!) предзнаменования. Посреди сбивчивой, плохо отлаженной коронации в Успенском соборе разорвалась бриллиантовая цепь вступавшего во власть самодержца, с костяным стуком – мясницки оттяпанной апостольской головой – покатился по каменному полу орден Андрея Первозванного… Схожее произошло при восшествии на престол Александра Второго: рухнул и громово раскололся, убив двоих и возвестив монарху-освободителю голгофную неизбежность быть разметанным – вслед за разлетевшимся вдребезги наперстком-глашатаем – гудяще-языкатый колокол Ивана Великого.
«Наитерпеливейшее распутывание лежит в истоке моей фамилии, вот и распутываю, а не рублю гордиевы узлы! – глаголит Распутин. – Отмеченностью первопризванности пала под ноги Николаю Александровичу лопнувшая брилллиантовая цепь, обвилась-затянулась петлей на шее и арканом повлечет из замогильной Могилевской ставки – к отречению, разжалованию и окончательной развязке!».
Грезяившаяся провидцу удавка и впрямь втащила Россию в войну с Японией, спеленав, потопила русские эскадры, подхлестнула бунты и поджоги помещичьих усадеб, расплелась на множество столыпинских виселиц (никого не усмиривших); долетавшие из прошлого смертельно иссекшие Александра Второго осколки бомб преемственно кромсали окропленного ходынской коронацией на крови монарха-новомученика, остробритвенно отсекали-отщипывали-вышибали из-под его власти – распятой на раздираемых распрями революционности пространствах – все новые агонизирующие территории…
«Иудея – в Африке, мы – на Севере. Для чего взвалили на себя ярмо новозаветных мук? – вопрошал Николай Александрович. – Подсуропили себе Иова, Христа и апостоловы узнические колодки. А могли избрать – не жертвенный путь! Не ошибся ли князь Владимир, искупав киевлян в Днепре и Почайне?».
«Что такое вы говорите! – всплескивал руками обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев. – Магомет и Будда не перечат смерти, а Христос одаривает жизнью вечной. Нет веры лучше бессмертной, христианской!».
«Вечностью измаешься, тем паче оказавшись в геенне, – предугадывал царь. – Славные, непритязательные были божества: Велес и Перун. Уж не говорю о Свароге. О снеге пеклись, о весеннем паводке, хлебопашестве. От хворей оберегали, семью хранили. А с Христом о погоде и урожае не покалякаешь. Распятому не скажешь: ниспошли сладкой брюквы. Бездетному, непорочно зачатому не до земных отцовских печалей!».
Победоносцев урезонивал:
«Мы все – Его дети! Объял заботой целый мир! Любые горести Ему близки, ваша отчасти схожа с той, что принес Бог-Отец. В помощь русскому люду и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Сергий Радонежский. Донской и Невский не только ратными подвигами славны!».
«У греков – окликни, и прервут пиры на Олимпе: Зевс, Апполон, Гефест... – нескрываемо завидовал Николай Александрович. – И Нептун всплывет – из глубины вод. Одного, будь Он хоть в трех лицах, не дозовешься! Иов, как ни упрашивал о снисхождении, десятерых детишек лишился!».
«Бог Иову вернул детей! И богатство возвратил, и крепкое здоровье. Испытал на прочность веру – и помиловал!».
Царь не вхохновлялся:
«Кто отмерит мне – как Иову – 140 лет? Не успеть повторить жизнь заново. Земной срок свыше ста годков не продлить. Греки нас обскакли – с Персеями и Танталами – сыновьями Зевса».
«Вы – помазанник! – выходил из себя Победоносцев. – И приравнены Небу! Царь один. И Господь един. В трех лицах. А толпы богов подтолкнут и царей назначать, как редиску на базаре, пучками. Многобожие не в ваших интересах!».
«Ну-ну, я досуже, не всерьез, – мямлил царь. – По мне лучше христианства и быть не может: положись на Бога и смирись, от тебя мало что зависит. Только внешне католики все ж опрятнее православных. – И, делясь потаенным, изводившим, исторгал: – Пять детишек у меня. А не десять, как у Иова. Может, ради их спасения перейти в буддизм? И магометанству я не противник!».
Выпытывал: «Откуда вам, Константин Петрович, известно, что не в масть, а что по правилам? В преферансе блеф не возбраняется, почему в некартежничестве нельзя притворяться?».
Константин Петрович отдувался: «Я – одиннадцатый ребенок в семье. Мой удел сызмальства – подмечать опрометчивости старших. Замыкающему видны просчеты впереди идущих».
Но податливо-непоследовательный император не дослушивал наставника (забывая: отец-предшественник-на-троне, Александр Александрович Третий, по мельчайшим поводам совещался с профессором Московского университета Победоносцевым, обучавшем его законоведению и патристике). Недоверчивый, малоопытный правитель (с кем из посторонних, не свитских, встречался вне тронных залов Николай Александрович?) прикрывал типичную для верховных невежд изнеженность показной лояльностью к облепившим трон лизоблюдам. Опереться можно на твердь и неподкупность, а угодливая оборотистая размытость хлопочет лишь о собственной выгоде и поглотит даже самого неуступчивого тирана, уж не говоря о слепленном из расплавленного воска безвольце. Без запинки наворкуют сладкоречивые прихлебаи то, что жаждешь от них услышать, воспоют грядущие победы, присовокупят: коньяки и вина какого года и какой французской провинции в наступившем сезоне предпочтительней и каких видов устрицы подавать к столу летом, а какие – осенью, но вели привести цитату из Евангелия или Даниила Заточника – обмишурятся, не отыщут в закромах куцей памяти подходящую назаретскую ретроспективу, античную и средневековую параллель.
Скудоумие и патриотизм – урожаи разных семян, но плоды эти царь упрямо складывает в одну корзину. Константин Петрович служил державности безукоризненно. А прожженые авантюристы – не чета Константину Петровичу! – подбивают царя то ассигновать (и чохом списать) астрономические суммы – на освоение Дальнего Востока, то подсовывают прожекты реорганизации бессмысленно разукрупняемых или, напротив, безмерно раздуваемых министерств. Войну с Японией царь затеял, легковерно поддавшись спекулятивному призыву поставщиков войскам залежалого обмундирования и протухшего провианта и не имея карт местности, где развернутся бои. Возглашая: «Каждый вправе идти за мной или вязнуть в клоаке бесчестия!», не одергивает лгунов, не учиняет выволочек – ни сановным дельцам-казнокрадам, ни челяди. Приструнить, устыдить, отчитать – даже вечно зевающую и почесывающуюся прислугу – вне кодекса расхолаживающей отчизну царской деликатности.
Щепетильность разорительна: воздевая гордо реющий парус моральной непопранности, исподволь наносит фрегату власти массу пробоин – в неладно скроенном государственном бюджете и личных альянсах. Неотвратимо платят благородцы (будто в колыбели напялившие белоснежные перчатки) за прихоть – оставаться до мозга костей честными! И все же огромное преимущество, что Россия сподобилась (в награду за бессчетные преодоленные ею испытания?) обрести искреннего, совестливого, незамаранного – даже в ошибочных завихрениях – монарха!
Офицеры-гвардейцы горланили (распивая с государем шампанское, что, конечно, недопустимо – панибратство подтачивает иерархический уклад, однако, обижать подчиненных отказом Николай Александрович опять-таки не смеет): «Самоназначьтесь главнокомандующим, сшейте маршальский мундир – и берите бразды! Мы за вами в огонь и в воду!». Но слабохарактерному не воплотиться в деспота, мягкосердечному и раздерганному не управиться с оравой обнаглевших пожирателей-ворюг! Ни в Суворовы, ни в Нахимовы не желавший понукать и не умевший опричничать царь себя не произвел, родного дядю, Николая Николаевича, грубияна и солдофона, с занимаемой наиглавнейшей армейской должности не потеснил, а продолжил, как официант, в скромном звании полковника, цедить чай из самовара гостям дворцовой столовой.
Константин Петрович Победоносцев, уже со смертного одра, прерывающимся голосом умолял: «Построже, ваше величество, как Петр Алексеевич Великий и Грозный Иван Васильевич, они своим же отпрыскам не давали спуска – из опасения: впадут во вседозволенность! При попустительстве (по существу – потворстве!) возобладает баламутство, дайте укорот разнузданности и расстрижничеству!».
Николай Александрович, выйдя из спальни, где на белых простынях, в ожидании зова Господня, давал последние распоряжения касательно собственных похорон исхудавший обер-прокурор, разрыдался. Что означали те всхлипы? Осознание открывшегося полнейшего одиночества? Невозможность изменить трагическую планиду? Однако, отплакав, заветам оберпрокурора не внял. И сказ Григория Распутина о России-Китеж-граде, погружающейся на дно веков – поношение святынь, потоки бездомных скитальцев различал Григорий Ефимович в наплывающей кровавой дымке – руководством к повседневности не воспринял. Засвистал унисонно с опрометчиво назначенными на высокие посты соловьями-разбойниками безысходно-разудалую русскую заздравную – как нельзя лучше годящуюся для невозделанных полей и бескрайних болот и топей: «Баю-баю, хорошо живем, лучше не бывает!».
Распутин по-мужицки, без придворных реверансов, вздрючивал безвольца: «Соображалка твоя на плечах, аль досталась дураку? О сходстве с Иовом Многострадальным – забудь! Ты – угодник Никола, творец чудес! Не приваживай горести – и не случатся! О простом народе радей – пусть не птица-тройка, а понурые клячи волокут колымагу русской жизни, но подсыпь кауркам овса, и поскачут во весь опор – не к обманно светящимся поверх хляби гнилушкам дворцов, не по лунным и солнечным бликам скользких русалочьих игрищ, а по насыпи-переправе, сооруженной здравомыслящим умельцем. Невский, Кронверкский, Каменноостровский проспекты – рябь и зыбь, а не вызволяющие тракты. Сенатская площадь, Дворцовая, Английская, Французская набережные и Адмиралтейство – уходящие из-под ног кочки. За коврами в петербургских спальнях те ж клопы, что в деревнях, тарканы-министры жирнее, чем обираемая ими голь в курной избе. Не тасуй лежебок, не твоим указам подневольную, а соитиям да обжорству. Правь, пока поводья у тебя не отобрали!».
Николай Александрович обижался: «С клопами и блохами меня не равняй! Я все вижу. И – взвешиваю последствия». Но, коль бесконечно взвешивать и перевзвешивать – не хватит жизни на практические сажонки.
Не без хмурого скептицизма регент взглядывал в окно. Придорожный пейзаж, обрамленный поверху тучами, а понизу – щемящей, как надвигающаяся тоска, кромкой сиротливо жавшихся к насыпи елей и берез, – отзывался внутренней (впрочем, схожей с внешней) знобкой непогодой. Кисли под дождем прямоугольные и клиновидные заплаты посевов. Лошаденка тащила по слякоти вихляющий шарабан. Мелькали жующие траву коровы, пастух замахивался на них кнутом, бегали босые детишки в полотняных коротких рубахах. Избы с черными соломенными набрякшими влагой крышами, сойдясь в незапамятные дни меж сплетенными из лещины изгородями в веселой присядке, не закончив пляску, накренились под грузом десятилетий.
Противник любых форм и способов пустой траты времени (народами и каждым отдельным человеком), Виссарион Петрович испытывал жгучее недовольство собой: зачем пустился в странствие, для чего примкнул к пустозвонной великосветско-сибаритской камарилье? Ладно, самовлюбленные фанфароны и бонвиваны и под стать им жеманные спутницы, таких коврижками не корми (да они к мучному и не притрагиваются, сберегая гибкие талии), а позволь бездумно профукать недельку-другую, растранжирить год или два, дай влиться в нескончаемый карнавал – отвратителен блеск их поддельных и подлинных (подленьких! подлыми способами добытых) драгоценностей и искусственный румянец впалых и обвисше выпирающих щек – но каким боком причастен к манерно-изысканной кичливой шатии рассудительный, не стремящийся мчать перекати-полем созидатель церковного хора?
Дату отъезда в Ливадию под разными предлогами переносили и откладывали, курьеры доставляли все новые депеши – из канцелярии московского градоначальника, от инспектора императорских поездов – о количестве и протяженности стоянок, о дополнениях и сокращениях в списке приглашенных. В итоге вместо малочисленной группы, намечавшей отпраздновать закладку первого кирпича новой Его Императорского Величества дачи на Черноморском побережье, двинулись в железнодорожно-яхтенный вояж преогромной толчеей – обозревать уже воздвигнутую (в неслыханно короткие сроки: всего полтора года строительства!) резиденцию. Любопытно, конечно, освидетельствовать жемчужину архитектурного искусства, воздать должное совершенству механизмов для подъема блюд из кухни в парадные апартаменты (причем лифты предусмотрены не только для людей, но и для собак), однако, стоит ли ради созерцания современного (пусть уникального) не средневекового замка жертвовать бесценными мгновениями, коих каждому отпущено не так уж много? Не лучше ли использовать неповторимые минуты и часы – для более весомых деяний? Коль помножить пущенные в распыл дни и ночи на количество переливающих из пустого в порожнее вертопрахов, выйдет внушительная цифра потерь!
В уши свербящими пташками (а то и щебечущими певчими выводками) впархивали неумеренные экзальтации: «Ах, ах, ах!», «Ох, ох, ох!», «У кого шили платье?», «Да, непревзойденная портниха!», «Чудесный кулончик!», «Какого сорта табак?»… (Жизнь для избранных... Жизнь всегда для избранных). Регент бы дорого заплатил, чтобы перенестись из сюсюкающей клики в уютную московскую квартиру на Зубовский бульвар – там никто не ломает комедии, не дымит ядовито-приторными пахитосками...
Крым, бесспорно, сопоставим с наиласковейшими райскими щедротами, но разве в августе в Царском Селе – не столь же солнечно и благоуханно? В Петербург исправно везут душистые груши из Алушты, сочные яблоки из Геленджика, маграчские тяжелые кисти винограда, отменное шампанское из Нового Света… А еще – свежесорванные фиалки из Франции и свежесрезанную сирень из Швейцарии. Но извилисты, прихотливы, неисповедимы маршруты поиска щекочущих утех – жаждущими новых неиспробованностей гурманами! Им потребны все мыслимые и немыслимые сорта и виды возбуждающих наслаждений! Вольготно расположились утонченные нанизывальщики удовольствий в плавно приседающих на каждой неровности рельсов рессорных вагонах: миндальничают, кокетничают, фривольничают – не устают расцвечивать утлый, с их точки зрения, быт (невыспренностью как раз и завораживающий) кутежами, волокитством, азартным расфуфырством, лихо отплясывают венгерку, томно тянут котильон и падеспань, кружатся в вальсах и мазурках, впадают в осмысленную самозабвенность…
Параллельно растет количество желающих поохотиться на скачущую галопом и краковяком, токующую (а то и призывно трубящую) дичь: вооруженные стрелки заняли позиции, откуда сподручнее взять в лет вальдшнепа во фраке, перепелку с декольте, затравить семью щетинистого кабана в генеральском мундире… Взрывоопасно и пулепритягивающе – других слов не подберешь! – легкомысленничают те, кому вменено предотвращать смертельные посягательства. Не нарочно ли, не со злым ли подстрекательским уклоном подстроен тарарамный – разве что барабанным боем не сопровождаемый – выезд?
Перебарывая першение в горле (вызванное сочившимся сквозь дверные щели едким папиросным и сигарным дымом) и защищаясь от дурманящей смеси французских благовоний (плюс взвесь английской пудры!), Виссарион Петрович прикладывал – к глазам, щекам, рту – носовой платок, отутюженный и заботливо уложенный в саквояж предусмотрительной супругою Надеждою Ивановною, и негодовал: куда смотрят горе-службисты охранного кортежа (или не видят дальше собственных пупсичьих носов и сомовьих усищ)? Непростительно их надругательство над здравым смыслом, преступна (и самоуничтожительна!) самоуверенность, а попугайских расцветок мундиры дразнят, а не отпугивают террористов! Но не втолкуешь полицейским барбосам дворового, а не дворцового пошиба и чучелам императорского его Величества конвоя (язык сломаешь, пока произнесешь!): недостаточно соблюдать предписанные правила увеличения скорости на долгих перегонах и вблизи платформ (ибо мужчина и женщина, зевака и железнодорожный служащий могут обернуться бомбометателями), недостаточно воспрещать отсылку телеграмм с полустанков, мимо которых следует императорский караван на колесах – за час до его приближения и спустя час после убытия, дабы злодеи не перехватили данные о перемещениях – убыстряя ход и выпуская для маскировки из Петербурга два неотличимо похожих состава (один – с царской семьей, другой – со свитой), извергов не проведешь, они не станут высчитывать, в котором из эшелонов – монарх, а в котором – статс-дамы и повара, поднимут на воздух оба. Чем больше царских приспешников разнесет в клочья – тем лучше!
Убиты министр просвещения Боголепов и финляндский губернатор Бобриков, вмосковский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и тверской губернатор Слепнев, а в Баку – губернатор князь Накашидзе; уничтожен, несмотря на то, что носил металлический панцирь за тысячу триста рублей, петербургский градоначальник Лауниц; лишены жизни (один за другим) министры внутренних дел Сипягин и Плеве, генерал Мин, адмирал Кузьмич, а в Саратове – генерал-адъютант Сахаров… Чудом (и стараниями Распутина) удалось предотвратить покушение на бывшего премьер-министра Витте! В наглухо обороняемом Зимнем дворце долго скрывались от устроивших облаву преследователей Столыпин и Гурко. Дачу Столыпина все-таки взорвали!
Охранная рать (если бы ищеечно-пронырливая, но нет, не берущая след бороздящх Россию душегубов) пьянствует, взяточничает, длит безнаказанную эстафету обогащения-поживы, вынюхиватели измены (а она – повсюду) и обезвреживатели стрелков и миноподкладывателей (а вооружен – каждый второй) бесшабашно переваливают ответственность за бездействие друг на друга: опозорившийся обер-полицмейстер Трепов (беспрестанно жаловавшийся Александру Второму на свою бедность) оставил сыну внушительное состояние, его последыш – Петр Дурново, уходя из Министерства внутренних дел (где неудовлетворительно справлялся со своими полномочиями), перевез казенную мебель в личные покои (да еще получил в подарок от царя 200 тысяч рублей!). Россия – затоптанным половиком – брошена под ноги якобы преданнейшим ее сберегателям (так холят телку, отгоняя волков и готовясь ее зарезать), которые, наравне (и наперегонки!) с могильщиками родины, дырявят общество картечью мздоимств и беззаконий.
С заплывшими жиром и алчностью глазами – не проскочить Сциллу и Харибду революционности (а после – хоть потоп, то есть затопление прохудившегося и ставшего непригодным для дальнейшего плавания корабля?), приписываемая страусам привычка прятать – в случае опасности – голову в песок, погружение в зыбучие золотые россыпи чреваты вулканическими потрясениями: в Вязьме восстал Лифляндский полк; 158 солдат Преображенского полка преданы суду за неподчинение начальству; в Камышине, Царицыне и Седлеце – вооруженные столкновения; в Севастополе антиправительственная пропаганда кончилась тем, что матросы принялись сбрасывать офицеров за борт, вешать их на мачтах. В Польском Царстве покушения на русских наместников – норма, в Ялте, что ни день, громят удельные имения. Царь (чего не бывало прежде) остерегается ездить на парады Московского и Семеновского полков. Он в своей стране – угодивший в осаду заложник! Крупные землевладельцы пособничают заговорщикам, похваляются, что снабжают их деньгами…
Запоздало Виссарион Петрович ругал себя: в злополучное предотъездное утро он чересчур резко обошелся с сыном. Петр всего-то и обмолвился: «Собираешься в Ливадию? Освящать дворец?». А регент, взвинченный, раздраженный, в глубине души ехать не хотевший, напустился на глуповато моргавшее пушистыми ресницами чадо.
Усатый фельдъегерь (от измятого мундира пованивало клейстером), вручивший Виссариону Петровичу заляпанный свеже-алыми блямбами пакет (схожесть сургучных штемпелей с запекшимися болячками и кровоподтеками была до подташнивания натуральной), по-лошадиному фыркал, ожидая, пока регент прочтет депешу. Не желая идти в кабинет за деревянным ножичком для разрезывания бумаги, Виссарион Петрович сковырнул выпуклые печати металлическим лезвием, которым только что намазывал масло. Щурясь, ознакомился с начертанным темной тушью, выведенным рукой государя приглашением: «Не откажите в любезности сопроводить Нас…». Из послания вытекало: в Петербург надо отправляться незамедлительно. Что шло вразрез с назначенной на вечер спевкой и споро начатым пересоставлением описей хранившихся в библиотеке собора Спаса-на-Бору нотных томов.
Регент обратился к допивавшему чай Петру: «Я уеду. А ты, будь добр, найди приют для казанцев».
Тенору и басу-профондо – рекомендованным в хор знаменитым солистом Большого театра Федором Ивановичем Шаляпиным, предстояло пройти вокальное испытание и, возможно, влиться в музыкальное содружество. Если экзамен откладывается, необходимо подыскать приезжим жилье, остальных хористов надо известить о переносе репетиции. Дочерям, Елене и Ольге, регент обещал помочь в занятиях латынью и древнегреческим…
Сын дернул плечом. И, подражая монотонной шарманке (что сперва показалось забавным), завел: «До Царского Села не ближний свет… – И бухнул вдруг оглоушивающей литавренной медью: – Не стыдно быть пажом первейшего подлеца!?».
Виссарион Петрович онемел. В голове помутилось. Так бывает, когда резко распрямляешься, долго побыв согнутым.
«Где этой гадости набрался?» – хотел и не мог вымолвить он. Каллиграфия государя: симметричные вензеля, ровные женско-округлые буквы, шорох гербовой бумаги утрачивали завораживающий ореол. Или потемнело в глазах?
Надежда Ивановна выпроводила курьера. Уходя, тот звякнул в прихожей саблей.
Петр уже не таился: «Высокая честь… Ошиваться возле редкостно талантливой плеяды Романовых! – Загибал пальцы: – Сам Николашка, жена, дети, три десятка великих князей, их жены, четверо дядей, десять двоюродных дядей, четверо двоюродных братьев, девять троюродных, да еще брат деда – все при должностях, возглавляют: кто – ведомство, кто – попечительский совет, кто – научное общество, кто – войска! Все – на казенном обеспечении, получают звонкую монету. Из государствееной мошны… Диву даешься их вездесущести: возводят дворцы, покупают яхты, убивают ради забавы оленей сотнями… Лицемерно и напоказ молятся: «Не введи во искушение»… Бог вводит в искушение? Я привык думать: искушает сатана. Наведались бы в крестьянскую избу или рабочий барак, пожертвовали грошик на школу для бедняков. На излечение больных детишек! Сколько миллионов потрачено на ливадийскую стройку?».
Облик сына предстал чужим. Задиристо топорщился пушок на верхней губе. Лоб побелел. Петр двумя пальчиками, как мышку за хвост, приподнял лежавшее на столе высочайшее потарапливание (регент расстелил его на скатерти, чтоб ласкало взор) и брезгливо отбросил: лист плыл по воздуху, шлепнулся на навощенный паркет.
«Величает себя с заглавной буквы, как Господь…» – и, упирая на эти буквицы (действительно, больше годящиеся для апостольских апокрифов), принялся, подвывая, коверкать текст.
Правильней было промолчать, дать возможность безудержцу одуматься. А потом, с позиций главы семейства, ради сохранения мира в доме, признать (частично и под сурдинку): да, неприкаянно, скособоченно прозябает Россия (достаточно бросить взгляд по сторонам и в вагонное окно) – не пристало ей перемогаться с хлеба на воду при несметной золотодобыче, алмазных приисках, густых лесах, пушнине, но, нет сомнений, упорный труд вызволит отчизну...
«Приучайся видеть прекрасное, – издалека начал регент. – А уж потом – побочное. В Ливадии воздвигнуто архитектурное чудо. Дворцы и мощенные камнем дороги останутся на века, это неувядающие дары предков потомкам…»
«Э-э-э, нет! – Петр не поддался уговорам. – Дворцы строят для самоуслаждения! Но при этом корчат из себя доброделателей, рассказывают басни о любви к богоносному народу. Сусально всей семьей читают напоказ Библию и разыгрывают домашние спектакли…».
Регент продолжил: «Восхитительны храм Покрова-на-Нерли, дом Пашкова, игрушечные маковки Николы в Хамовниках, что с нами по соседству, они – земное воплощение божественной прелести. Изгони благодать – возникнут провалы, дыры, место красоты займет уродство. Оно и без того вредоносно ополчается на божественные вкрапления, дай волю – пожрет каждого!».
Рассуждал веско, убедительно (сам это чувствовал), приобщал Петра к правоте очевидного: «Каждую промашку, каждый недосмотр царя враги используют, чтоб возмутить подданных. Беспорочного обер-прокурора Святейшего синода Константина Петровича Победоносцева выставляют мракобесом! Выискивать червоточины, усугублять раздоры, ссорить народ и пастырей? Вместо того, чтоб добиваться примирения и вызволять ослепленных из мрака предубеждений – это ли не умышленный происк?».
Петр, казалось, проникался непогрешимостью приведенных аксиом. Виссарион Петрович двинулся дальше – осторожно, тщательно подбирая умягчающие (и отсеивая способные всколыхнуть) обоснования: «Заблудилась Россия в трех соснах, затевает реформы, отменяет их. Непоследовательность – плохая черта. Надо быть самопродолжателем, а не самоотрицателем».
Сын взирал выжидательно. Регент наращивал напор:
«Человеческой натуре присущи большие и малые пороки. Учитывать это – необходимо, а возводить в ранг вселенского непобедимого зла – не стоит, пустячками правильнее пренебречь. Иначе растащишь, расшатаешь покоящийся на крепчайших сваях русский терем! В жизни присутствуют (и, увы, в немалых пропорциях!) беспечность, дурость, неразборчивость выбора средств. Но – достаточен ли повод для глумления над богоустроенным миропорядком? Существуют два взгляда на бытие: близорукий и дальнозоркий (речь не о врачах-окулистах), дальнозоркий летит поверх недочетов, весь в нетерпении и предвкушении – редко кто всерьез верит, что наступающее завтра окажется хуже, чем сегодня; близорукость, напротив, нетерпима и пристрастна к сиюминутным огрехам, жаждет их скорейшего искоренения, а, если этого не происходит, негодует. Редко удается совместить здравость суждений о теперешнем и не обольститься неведомым. Абракадабру не исправить – росчерком пера, посвистом кнута, медовостью пряника. Дисгармония изживет себя, коль противоречия не усугублять».
Исподволь Виссарион Петрович изучал повзрослевшего сына. И – обнадеживался: «Перевылеплю отрока». Апеллируя к сокровенным родственным глубинам, вел из бури к надежному причалу: «Себялюбцы мыслят дробно, осколочно, руководствуются разноустремленной психологией лебедей, раков и щук. Предоставить недалеким хлопотать о недалеком? Нет, нельзя пускать жизнь на самотек! Задача: вплести лилипутские потуги – в грандиозное созидание!».
Петр недобро ухмыльнулся. Длинный, худой. Ершистый.
«Какого карлика имеешь в виду? Низкорослого монарха-полковника? Или сброд его дружков: Трепов, Безобразов, Дурново, Дубасов, Горемыкин, Хвостов? Паноптикум! Не фамилии, карикатуры! Мы – в городе Глупове! Долго будем существовать по Салтыкову-Щедрину? Куропаткин – военный министр? Он – цесарка! Что и доказал полнейшей провальностью своих стратегических потуг. Царь-гном собрал вокруг себя пигмейскую шваль!».
Интонации переливались оттенками злой иронии:
«Возлюбленный тобою император-полковник сослал в Сибирь староверов, они – в отличие от него – истинно верят в Бога и погибнут за веру, потому что в суровом климате – чем смогут питаться, если не едят мясное? Приказал расстрелять демонстрацию 9-го января! Люди шли без оружия. Детишки влезли на деревья поглазеть на шествие, полицейские принялись палить по ним. Вот с каким могучим врагом справился царь!».
«Николая Александровича не было в тот день в Петербурге! – оспорил регент. – А насчет безоружных рабочих заблуждаешься!»
Петр не давал опомниться:
«Он и сам непрочь пошарашить из всех стволов. По воронам и бездомным собакам. Ему нечем заняться? Может, лучше изучил бы не блестящее положение дел в стране? Убивая других, трясется за свою никчемную жизнь. Не поехал на похороны взорванного дяди, московского главы, Сергея Александровича. Совершает моционы уже не в парке, как раньше, а по крыше Зимнего! Как ворона. Но и по нему кто-нибудь шмальнет!».
Виссарион Петрович возобновил старания:
«Над династией Романовых тяготеет фатум. Пророчица задолго предсказала смерть «в красных сапогах» красавцу-императору Александру Второму. Так и вышло: под ногами царя-освободителя ахнула брошенная заговорщиками адская машина. Жаль и взорванного Сергея Александровича. Павлу Петровичу Первому монахи – уловители небесных знамений – назвали дату покушения. Павел Петрович не прислушался и был убит. Александр-красносапожник и Сергей Александрович тоже не подчинились предсказателям. Николай Александрович извлек урок. Не забыл сказанное отцом-государем, когда тот, обрызганный кровью раздавленных в железнодорожной катастрофе слуг и прижимая к груди бездыханную любимицу – собаку Камчатку, изрек: «Мертвая Камчатка – предвестие!». Вскорости японцы потопили корабли «Камчатка», «Уралец», «Ослябя», всю отважную русскую эскадру!».
Петр взглянул исподлобья. Регента пробрал озноб. Надеясь заболтать, затушевать обнажившуюся оскаленность – не ребенка, не малыша, а отчужденного незнакомца («Ведь я и впрямь его упустил!» – отчаялся регент), торопясь перечеркнуть эту неприкрыто явившуюся вражду, он добавил скороговоркой: «Николаю Александровичу в последнем странствии по России суждено проплыть на пароходе «Русь» мимо села Покровское, откуда родом Распутин. По-кровское… По крови, стало быть, понесет царя Русь! – растолковал Виссарион Петрович. – От Григория Ефимовича получено это пророчество».
Регент почти заискивал:
«Равновесие жизни покоится не на фундаменте одной лишь добродетели (которая должна бы торжествовать, да почему-то не дает буйных всходов), а балансирует на шатких подпорках несовершенства. Слабостями неискушенных простачков, таких, как ты, пользуются ловкачи, они, словно на дудочке, играют на чужой доброте. Не позволяй собой помыкать! Пушкин и Лермонтов могли удариться в сатиру, поводов хватало. Но не соблазнились зубоскальством. Расточительно тратить себя на дрязги!».
Петр остановил набравший инерцию словесный ком:
«Пушкина и Лермонтова извели за их талант, чтоб не мозолили глаза, не раздражали своими дарованиями казарменного Николашку Первого. Будь царь одарен, не посмел бы цензуровать Пушкина! Не посмел бы сказать о смерти Лермонтова: «Собаке – собачья смерть»! Не принял бы привезенный принцем Хозревом-Мирза в уплату за убийство Грибоедова алмаз: драгоценные караты не искупят гибели великого соотечественника! Николашка сегодняшний – такой же ноль, как Николай прошлый. Опять приторговыает жизнями подданных. Опять ничтожество во главе державы! Ведь не знает, каким путем вести Россию, пусть уступит место сведущим!».
Изрекаемое сыном надтреснутым, нездоровым голосом – возможно, причиной были возобновившиеся головные спазмы? – поражало правдивой детскоскостью. В голове стучало: «Ранит не вгорячах выплеснутая оголтелость. Ранит правда».
Но разве полную правду изливалт Петр? Да и бывает ли она полной?
«Имею ли право, – спросил себя Виссарион Петрович, – пусть даже косвенно порицать того, кого непозволительно чернить? На чью мельницу пролью воду (а то и кровь!)? Недоброжелатели – а Петр, несомненно, подпал под их влияние, – и без того преуспели в охаивании России и государя. Отцовский долг – оградить дитятю от пагубных нагноений. Иначе дебри нигилизма поглотят Петра!».
«Нужен царь. Чтоб сдерживать буянов и лиходеев, – заговорил Виссарион Петрович. – Демон хаоса не щадит никого. Власть, просвещенная или слабая, не повелевающая, лучше безвластия! Без иконостаса церковь – не церковь, хор без камертона – разноголосица! Оказавшиеся на вторых ролях норовят взять реванш, отмстить превзошедшим их, стычки в дрянном (и, тем не менее, слаженно выступающем) оркестре – а нам с тобой выпало существовать в мире музыки! – то вспыхивают, то затихают и опять разгораются, невыносимый сумбур в оркестровой яме нарастает, но звучит для его устроителей волшебной симфонией: «Я обдеру тебя, как липку, за то, что ты обдираешь меня, а потом объединимся и обдерем кого-то третьего…» Демонстранты, ты напрасно называешь их мирными, разграбили военные склады! Баррикады строили из мебели, отнятой у окрестных жителей. Ты хотел бы, чтоб нашу мебель пустили на баррикады? Если б царь вышел к демонстрантам, а этого и добивались зачинщики, его бы изрешетили! В него стреляли уже 6-го января! Планировалось свержение государя и заточение императрицы в монастырь! Ты хоть понимаешь, что начнется, лишись страна управления? Потеряемся, заблудимся в вихре! Утратим дом, будем раскиданы по свету! Громя укоренившееся, становишься не нужен, другую жизнь будут строить новые люди!».
Прибавил, переведя дух и стараясь вернуть себе спокойствие: «Рабочие, одумавшись и поняв, что их доверчивостью злоупотребили, пришли к царю просить прощения! Признались, что заготовили списки тех, кого намеревались перестрелять.!».
Компресс, способный остудить, кажется, самую буйную голову, не подвинул сына к раскаянию:
«То, что рабочие пришли виниться, говорит лишь об их замордованности! Депутацию велели снарядить и евреям – после организованных черносотенцами и полицией погромов, но евреи отказались кланяться. Нас, студентов, полиция хлестала нагайками. Врывалась в университетские аудитории! По-твоему, мы должны после этого лебезить перед царем? С чего столько недовольных, если в государстве тишь да гладь? Вероятно, условия провоцируют протест. Царь-пустышка и его прихвостни – вот причина гнева!».
Виссарион Петрович бросился на приступ:
«Правление Николая Александровича – от Бога: не был зарублен самураем в Японии, уцелел на яхте «Штандарт», когда штурман-предатель направил ее на камни! Миротворца Александра Александровича Третьего, отца Николая Александровича, не раздавило в поезде, сорвавшемся под откос! Слуги погибли, подаренная матросами крейсера «Африка» собака Камчатка погибла, а венценосца с женой и детьми вмешательство Бога уберегло! – При упоминании о чудесном спасении в груди Виссариона Петровича потеплело, но патетики регент избежал. – Трактуем участие Господа в земных делах упрощенно: устранился де… Нет, не устранился!».
Петр упрямо тарабанил свое. То есть, конечно, не свое, а наносное, от кого-то воспринятое:
«Сколько стражи берете в Ливадию? Сколько будет ее на полустанках? Если б Пушкина и Лермонтова берегли, как Николашек, оба гения не погибли бы! Павел Первый умерщвлен при участии своего сынка – Александра Первого. К смерти взорванного Александра Второго причастен восхищающий тебя миротворец – Александр Третий. Имеют ли право отцеубийцы повелевать страной? Не припутывай божественное. Нынешний император-полковник – не божество: во время поездки в Японию, ты о ней толкуешь, как о небесном избавлении от занесенного клинка, помазанник околачивался в квартале легкомысленных заведений! Без стыда длил связь с балериной Кшесинской! Его дядя, отзывчивая душа, нанял для племянника ради встреч с кокоткой квартиру близ дворца. Чтоб недалеко было ездить развратничать. Эта пассия царя и сегодня кочует внутри императорской семьи, принимает подарки за свои услуги!».
Петр хлестал обвинениями – с базарной надсадностю:
«Погуляв вволю, женился на дармштадской принцессе. Короновавшись, пока на Ходынском поле трупы задавленных складывали штабелями за торговыми павильонами, отправился вместе с законной супругой на бал к немецкому послу!».
«Не знали о Ходынке царь и царица, от них скрыли произошедшее!» – закричал регент (да так, что жилы на лбу вздулись, он сам это ощутил).
«Не ведать о Кровавом воскреснье, Ходынке? – Петра развеселила отцовская осведомленность о царской неосведомленности. – О том, сколько русских эскадр потоплено в войне с Японией… Помыкать державой вслепую?».
Сын взъярился до ереси:
«Нет отличия меж служением Господу и прислуживанием высоким чинам! На небесах и на земле вознаграждаются угодливые: «Слава тебе, Господи!», «Спасибо тебе, Господи!», «Да святится имя Твое!», «Многая вам лета, Николай Александрович!»… – Петр речитативил, как обучили его в семинарии: – Но ведь это – неприкрытая лесть кесарю и Богу. В заповедях запрещено возводить хулу и лжесвидетельствовать. А подобострастничать? Не запрещено? Велеречивость – первый признак лжи! Льстивость – ее разновидность! Если Бог допускает двоечтения, значит, падок на медоточивость! Похвали Бога – попадешь в рай. Похвали царя – очутишься в доме Дворцового ведомства. Эту квартиру – семь комнат! – выхлопотал для тебя беспорочный глава синода Победоносцев. Но Богу служат бескорыстно! Псевдосвященник Гапон отирался среди министров, градоначальников, жандармов! И ты отираешься! Иеромонах Илиодор именем Всевышнего прокладывает себе дорогу во дворцы, ему все равно, что говорить: за Бога или против Бога, за царя или против царя! Разве Бог и политика совместимы? Про Илиодора известно: он и на руку нечист! Распутин покровительствует этому монаху-флюгеру, монаху-оборотню, зовущему к погромам. Духовный сан позволяет воровать и сеять ненависть? Ты – заодно с Гапоном и Илиодором?».
Показалось: земля разверзается под ногами. Сраженный регент все же ответил с должным достоинством:
«Жалованье добываю честно. Надеюсь и тебя увидеть хотя бы на клиросе. Приобщенным к церквному неожесточению. Пианино куплено специально для твоих занятий!»
Петр – будто пошлому анекдоту – ухмыльнулся родительской потачке. Для пущей насмешки продирижировал рукой:
«Мир музыки… В главном соборе… Где акустика неописуема… На потребу единственного слушателя… А уж елейное суесловие в попытке примазаться, припасть к стопам! Кто придумывает эти ваши термины? «Равноапостольный…» То есть – равный апостолам? Апостолы претерпели адовы муки, а какие страдания превозмог князь Владимир? Ненадолго окривел? Скольких он убил! У него было 800 наложниц! Разве у апостолов Андрея и Павла были наложницы? Но прелюбодей и убийца провозглашен «равноапостольным»! Дай срок, и упыря-полковника тоже объявят святым, а ведь он догоняет в кровавом самодурстве гонителей христианства Нерона и Калигулу! Войну с Японией заварил, чтоб отомстить самураю, который его чуть не зарубил? Демонстрацию рабочих искровенил за то, что люди не желают принять его верховенство? Почему Бог это попускает?».
Все перевернул вверх дном Петр, приправил абсурдностью и сыпанул – хламной смесью из мешка на блошином рынке.
Виссарион Петрович с расстановкой – по-церквному обозначая каждый кондак, отмерил: «Князь Владимир отряхнулся от скверны. В этом смысл крещения. Христос воскресает в каждом из нас! Если Бога нет, откуда в людях жажда справедливости? Радость, когда она торжествует? Откуда знание: как должно жить и тоска по совершенству? Супостаты морочат царя: завязали ему глаза и толкают в неверном направлении, как в жмурках, а сами прячутся. Но 9-го января сам Бог в трех лицах воссиял на петербургском небосклоне: радуга – зимой и три солнца! Такого не бывало!».
Он склонялся к решению: никуда не ехать. А беседовать с сыном – пока не опомятуется. Но чужие (даже отцовские) шишки на лбу – после долгих блужданий в потемках и поисков нужной двери – втуне. Ценится истина, оплаченная собственными ссадинами. Взъерошенного недоросля хотелось котеночьи приласкать: ему предстояли (исходя из нынешней непримиримости) ох, сколькие непоцелуйные соприкосновения с глухими стенами…
Виссарион Петрович поддался искусу. Сын отпрянул. Оливковая ветвь со скрюченным, высохшим корневищем пятерни повисла в воздухе – словно выклянчивая подаяние:
«Надвигалось убийство! А явлена радуга? Не густо! Лучше бы Бог предотвратил расстрел!».
И все же возраст позволял опередить ход мыслей впавшего в раж ниспровергателя:
«Не бывает равно распределенного достатка. И не было нигде и никогда. Самые распрекрасные цивилизации ковыляют на хромых ногах: умные эксплуатируют глупых, отталкивающие завидуют красивым, необеспеченные не исчезнут, даже если всех поголовно озолотить. По плечу осчастливить мир только Господу! Но и Он пока не преуспел в земном жизнеустроении, люди ищут панацею сами. Твой тезка Петр Великий, дабы избежать затаптывания слабейших, учредил табель о рангах, упорядочил население по сословиям и разрядам – в зависимости от приносимой пользы. Однако, какой бы высокий пост имярек ни занял, продолжит зариться на должность выше и имение побольше. Добродетель – в умении довольствоваться малым».
Подчеркивая собственную независимую взрослость, Петр принялся бросать вещи в услужливо разинутую саквояжью пасть: на дно – стопку гадких подстрекательских брошюр, сверху – студенческие конспекты и ставший камнем преткновения реферат «Борьба богов». Не забыл положить недавно приобретенный бритвенный прибор. Шагая широко, неприлично, как пьяный мичман, наподдал ногой в ботинке царское письмо. Оно шаркнуло по жалобно скрипнувшей половице. Петушино взвился тонкий голос:
«Уеду… Из России. В России жить позорно!»
«В чем позор? – чувствуя: самообладание окончательно покидает его, из последних сил (почти из пепла, подумалось ему, усталость была безмерна) восстал регент. – В том, что люди неидеальны? Все люди, на всем земном шаре…».
Но мог ли он позволить себе поблажку? Виссарион Петрович низвел интонацию до просительной:
«Я не молод. Мама не молода. Сколько нам осталось? Сестры нуждаются в тебе. Высшие лица (и высшие силы) обойдутся без твоих подсказок, смогаться – себе дороже, расплещешь себя по чужим плошкам. Поезжай с мамой и сестрами на дачу в Борисово. Составь мне компанию до Петербурга!»
Петр иерихонски всхохотнул.
Услышав смех и решив: гроза миновала, в гостиную заглянула и распахнула объятья, будто клуша, стремящаяся охватить цыплят любящими крыльями, Надежда Ивановна. Но – натолкнулась на отчужденные лица отца и сына. Запричитала: «Не бывало, чтоб вы так сердито ссорились!».
Подчеркнуто угрюмо регент извлек из платяного шкафа дорожный (чертовой кожи, похрустывающий, колом несгибаемый) костюм. Позвал Елену и Ольгу и попросил высчитать: когда прибудет в Царское, если отправится вечерним поездом. Проверив прочность шнурков (они перетираются и лопаются в самые неподходящие моменты), снял с вешалки летнее пальто, запихнул в карман поднятый с пола вензельный листок, очистив его от налипших соринок.
Чмокнув в щеки жену и дочерей и превозмогая одышку (она всякий раз сдавливала грудь, когда захлестывало волнение), Виссарион Петрович шагнул на улицу. Влажный ветер швырнул в лицо пригоршню дождевых брызг. Удивительно дождливое лето выдалось в Первопрестольной, воздух набряк сыростью, тучи ползли придавливающе низко.
Петр выбежал следом – в распахнутой студенческой тужурке, без фуражки. Изображал раскаяние? Виссарион Петрович досадливо махнул рукой. Кликнул извозчика. Их всегда полно на Зубовской площади. Сел в пролетку, стараясь не замочить пальто. Возникло внезапное, кажется, не могшее сочетаться с закупорившим горло затором спокойствие. Обратился к сыну:
«В Греции, в городе Ханья на острове Крит, где прятался в лабиринте столь интересующий тебя рогатый человеко-бык, турки, в период своего владычества, превратили церковь Введения Богоматери во храм в мыловарню. Заболела дочь паши, мусульманский бог ее не вылечил. Паша воззвал к Христу, и Христос девушку спас. Паша велел мыловарню закрыть. Но его единоверцы так хитро обнесли свои дома оградами, что православные не могли приблизиться к святыне. Николай Александрович, ты его полощешь, выкупил землю вокруг собора»…
Голос дрогнул. Чтобы скрыть это, Виссарион Петрович отвернулся и пробубнил: «В трудный час необходимо помочь царю. Потому еду с Николаем Александровичем!».
Качаясь в дребезжащем тарантасе и обозревая зеленеющие московские сады, Виссарион Петрович ругал себя: строгость к юнцам всенепременна, а он, убеленный сединами – не глава семейства, а на дуде игрец, – чуть ли не плясал и не пел! Да, есть опасность: сын в завихренной горячке понавыкидывает фортелей, но, скорее, напускное ребячество схлынет. «Только бы не стал добычей стервятников, караулящих каждый шаг отбившихся от стада одиночек!».
И все же: как выходят из повиновения недавние ласковые чада?
Едва первенец подал голос (а, вернее, разразился громким плачем), Виссарион Петрович (в те дни – дьякон собора Спаса-на-Бору) сговорился с настоятелем, отцом Кириллом, окрестить младенца. На воспоследовавшей по исполнению обряда трапезе, Кирилл, хоть и рокотал: «Наречен Петром, на сем камне воздвигну…», предостерег: «Священническую стезю для сына не загадывайте. Божественного промышления никто не знает». И как в воду (купельную) смотрел: окончив семинарию, Петр в Славяно-греко-латинскую академию поступать отказался.
Надежда Ивановна безотдохновенно молилась в лавре преподобному Сергию (он почитался покровителем рода Былеевых), но Петр к привезенной из Посада просфоре не приторнулся, а таинство евхаристии и Радонежского игумена земли русской охихикал.
Университет, на историко-филологическое отделение которого был зачислен Петр, увлек первокурсника – увы, не оказией безграничного расширения познаний, а поездками (с такими же, как он, слышал-звон-не-знаю-откуда-он, зелеными юнцами) по деревням и рабочим баракам: впитыванию опыта профессоров сынок предпочитал распространение сомнительной (да что там – запрещенной!) литературы. Ректор, князь Сергей Трубецкой, подвергся – за солидарность с учащимися – жутчайшему разносу и скончался после сердечного приступа прямо в кабинете министра, кричавшего и топавшего ногами на впечатлительного ученого. Президент физико-химического общества, изобретатель радио Александр Попов, был обруган столь же грубо (за такую же, как у Трубецкого, простуденческую позицию), и умер от кровоизлияния в возрасте сорока семи лет. Надзиравшие за студентами инспекторы потешались: «Какого следующего радикала вызовут к начальству и кто еще окачурится?». Петр выступил инициатором митинга – в память о затравленных педагогах.
Презирая осторожничанье (регент клеймил себя похожестью на прячущуюся в хрупкий домик улитку – таскает, осклизлая, на спине непрочную свою безопасность!) Виссарион Петрович попросил архимандрита Кирилла образумить крестника.
«Николай Александрович строит по всей России народные дома, в этих домах выступают известные артисты, писатели, – поглаживая шмелино выпиравшее брюшко, вдалбливал тот изнывавшему Петру. – А вы, желторотые, обольстив полуграмотных иллюзией умственного равенства (каковы, кстати, их успехи в постижении Канта и Фейербаха?), ужо накличете: Европа превратится в проходной африканский двор, на ее развалинах троглодитствующие выходцы из белокожих арийских племен сожгут непостижимые для них книги, в Кремле дикари – изрубят иконы, людоеды испыряют в Колизее и Тауэре тех, кто возвысил их до себя. Россия не случайно плетется в хвосте так называемого прогресса и «не спешит – не смешит», долго запрягает и готовит сани летом – пусть первооткрыватели платят за торопливость!».
Солидаризируясь с Кириллом, Виссарион Петрович передразнивал себя: «Откуда Петруша нахватал вздора? Так в родной семье! Ставили в пример – и сам регент, и Надежда Ивановна, и дочери (при каждом удобном случае!): Англию – за непревзойденнное законодательство, Францию – за раскрепощающее свободомыслие, Италию – за возносящий над мраком средневековья ренессанс, Испанию уподобляли России – не в связи с архитектурными изысками и географическими экспедициями, а приравнивая уничтожение покоренных ацтекских цивилизаций к инквизиционному – под сводами министерств! – доведению топотом и ором до смерти выдающихся умов.
Хныча: «Отвернулся от нас святой Сергий», сестры Елена и Ольга встречали Петра, возвращавшегося после стачек и манифестаций, свежеиспеченным пирогом с земляникой и курлыкали: «Рим, Милан, Льеж, «Ла Скала», «Уффици»!» Надежда Ивановна вышивала красным мулине на сорочках, в которых Петя фрондировал: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» – и довышивались, допирожнились, доземляничились! Хорошо, конечно, что Петруша не мирится с несправедливостью, не терпит лжи (как и должно!), не потакает мерзостям. Похвально заступничество за неимущих и неграмотных: «Надо, чтоб не стало обделенных...». Да только благие задатки куда как часто входят в противоречие с общепринятыми, повседневно навязываемыми кальками и служат залогом неосуществления себя: не подладишься – не состоишься.
Кирилл, распалясь, драконил реферат Петра «Борьба богов за власть на небе и под небом»: «Ты в своих каляках-маляках (уж извини, возлюбленный ставленник, что я без придыхания о твоей конгениальности) довольнодумствовался, довольтерьянствовался до того, что Александр Первый – это Зевс (но не потому, что победил Наполеона, а потому, что сверг отца своего Павла Первого), Павел Первый – в твоем преломлении – это Крон, но Крон пожирал собственных детей, а Павел Первый едва не был съеден недолюбливавшей его матерью. Годунов – Ирод (как ты обозначаешь), но Ирод уничтожал младенцев сотнями, а Годунов порешил единственного! Перун – вот уж не предтеча тишайшего Федора Иоанновича, и оба они не на задворках и не в охвостье Истории (как ты изгаляешься в своем пашквиле), а едины с предыдущими и последующими избранниками Небес!».
Возмутило Кирилла и то, что выдающийся историк Василий Осипович Ключевский пометил на титульном листе одобренной им работы Петра: «Александр Первый. Легче притворяться великим, чем быть им. Император Николай Первый – военный балетмейстер и больше ничего. Все эти Екатерины, овладев властью, прежде всего спешили злоупотребить ею…» И чуть ниже: «Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта». Ногтем Кирилл отчеркнул неприемлемые пассажи в положительном отзыве Ключевского об исследовании студента Былеева: «Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования». И без околичностей сказал: «Из-за таких, как Василий Осипович, университет превратился в рассадник крамолы!».
Распутин отнесся к реферату более чем сочувственно: «Верно ухвачено: цари нужны, чтобы лелеять – гомеров, вергилиев, аристофанов, рафаэлей, леонардо да винч... Правителей, забывших об этой миссии, вышвыривают на свалку».
Петр засел за переделку опуса: дал преамбуле провокативный подзаголовок: «Зачем Зевс сверг отца своего Крона, а не провозгласил любовь на Олимпе?», сократил и отредактировал наукообразную центральную часть, заключив: «Не от голода Крон пожирал детей, а потому что тираны глотают кого ни попадя, пока не обломают зубы о камень, на котором стоит храм!», внес в эпилог саркастическую шиворот-навыворотность: «Правь Минотавр не из пещеры, а открыто, и предстал бы тореадором, в лучах славы пожирающим на корридах девушек – под аплодисметны толпы».
Страшная (наитием угаданная?) Петром правда о подземельях Александровского дворца и спрятанном в их глубинах нетравоядном шестипалом чудище требовала предостеречь дитя от дальнейших опасных (пусть преподнесенных шутливо и в предположительно-сослагательном наклонении) фантазий. Но облеченный доверием тайнохранитель не вправе рассусоливать о новом Минотавре и бычеголовых причинах несчастий царицы и царя!
Прочие заковыристые выпады памфлета ни Кирилл, ни Виссарион Петрович (сами косо взиравшие на творимые головотяпствующей элитой мозолящие вопиющести) опровергать не стали, согласившись с Петром: негоже волочить в полицию, ссылать, забривать в казармы единичных антагонистов, жаждущих большей уравновешенности общества – в то время как подлинные устроители государственного крушения (выказывающие полнейшее пренебрежение к бедственному положению соотечественников) грязнут в преступном самонеограничении: экзотически наряженные арапы (коим щедрое жалованье выплачивают просто за природную сажерукость и чернолицесть) распахивают двери их загородных и городских вилл, сотни стеариновых свечей сжигаются – в эпоху наступившего электричества – ради каприза фитильной доморощенной отсталости неистребимых фамусовых и молчалиных, флаконища благовоний выплескиваются на горячие лопаты, чтобы сообщить залам приятственную атмосферу – начало спрыскиваниям положило венчание Николая Александровича и Александры Федоровны. Разрастаются гаражи сановных снобов, все больше в услужении у повелевающей верхушки шоферов и механиков (вместо конюхов и кучеров), а во дворцах – камердинеров, церемонемейстеров, скороходов, секретарей, казаков, банщиков, истопников! Для увеселительных плаваний на яхтах – дополнительно к офицерам и матросам – нанимают музыкантов... Пользы от полнейше никчемных прожигателей бесполезной жизни – никакой: заблудись фавн-радетель о своем (а вот уж не о народном) благе в анфиладах собственного (построенного на уворованные средства) особняка (трудом праведным не наживешь палат каменных), и выхоленного сибарита, расходующего уймы денег на показуху и омерзительную роскошь, никто не хватится.
Русские транжирства притягивают (что естественно) вынюхивателей дармовщинки со всех концов планеты. Отъявленным прохвостам – шаляй-валяй-здрассьте! – уготован в Петербурге наилюбезнейший прием. Прикатившему из Лейпцига создателю чудо-пушки (ее выстрелы де способны отогнать тучи) отвалили за его пустейшее изобретение миллион! Эту мортиру он пытался сбыть австрийскому императору, но получил отказ: прижимистый Франц-Иосиф, охочий, кажется, до всех сортов вооружений, лишнего на чепуху не потратит – дождь можно переждать под крышей или зонтом, зато в России властелин погоды и исправитель климата («Теперь над Петербургом зимой и поздней осенью воссияет солнце!») снискал ни с чем не сравнимое обожание (пустить средства на белиберду так приятно) и был удостоен графского титула. Несусветно облагодетельствовали и другого афериста, мсье Филиппа, посулившего царской чете крепыша-наследника, а подсуропившего – при посредстве мышьячных зелий, полночных заклинаний и черноснежных вылепленных в Петергофском парке изваяний – шестипалое исчадие! Покидая поверженных горем государя и государыню, мсье Филипп каркал из кареты, влекомой однокрылыми (утратившими вследствие скальпельной ампутации вторую маховую конечность) пегасами: «Женственный царь, мужественная царица, из романово-дармштадской пены суждено выкристаллизоваться афродите с копытами и рогами!».
Отпустив извозчика и душеразрываясь: «Если б хоть намекнуть (а то и подробно изложить) сыну: Ливадийская резиденция для того и построена, чтоб прятать в ней копытно-шестипалое чудище!», Виссарион Петрович пересек по мокрой брусчатке кремлевский двор, проследовал мимо Екатерининских Судебных Установлений и казенной громады Николаевского дворца, постоял возле расколотого (как вся Россия!) Царь-колокола («Символы, на каждом шагу – символы!» – восклицает Распутин), добрел до лебедино-белого, длинношеего, с золотыми в небо задранными клювами святилища. На лебяжье гнездовье пикировали траурные вестницы. Не к добру взреяли клочья воронья – над краснокирпичным сердцем Москвы!
Внутрь Успенского собора регента впустил псаломщик Мефодий – маленького росточка, с реденькой бородкой и гниловатыми зубами востроносенький мужичок. Виссарион Петрович отдал распоряжения касательно прибывших из Казани певчих, задержался, любуясь фресками Дионисия в Похвальском и Петропавловском приделах, и – пройдя сквозь дубраву расписных колонн и рощицу бронзовых позолоченных паникадил – припал к многоярусному алтарю. В мольбы о благополучном исходе поездки вплетались звеневшие в ушах сыновьи кощунства: «Я обижен на Бога!», «Ненавижу царя!». Как посмел сын произнести такое?! Ведь знает: регента и Николая Александровича связывают не реверансы и экивоки.
Лампадные искорки, отражаясь в глазах угодников, бросали отсвет на Корсунские кресты, привезенные из Константинополя времен византийского господства («Со всего мира, из древнейших глубин стекается в Кремль великолепие!» – радовался Виссарион Петрович); златокрылым голубем взблескивала злато-серебряная дарохранительница, парящая над аналоем: не все государственные бумаги перекочевали в Петербург, многие безотлучно помещались в этом ковчеге. Соприкасаясь взглядом с иконописными ликами, регент проходил вслед за Иисусом тяжкий крестный путь, соучаствовал в деяниях апостолов, возносил хвалу дружному воинству славянских попечителей. В юношеские годы Виссарион Петрович сомневался: «Смогу ли построить бытие, посвещая все отпущенные мгновения Господу?». Сухопарые силуэты, нимбы, бесстрастные утонченные абрисы верхних – праотеческого, пророческого, праздничного – рядов казалось монолитно-нерассоединимым сонмом. Досконально изучив жития, постигнув осеняющую благодать каждого изображения – он научился улавливать исходившую от каждого образа неповторимую теплоту.
Красными, белыми, синими сполохами переливалась площадь перед Успенским собором в ярчайший праздничный день, навсегда сопрягший государя и регента: Николай Александрович, согласно вековечной традиции, троекратно поклонился с Красного крыльца Грановитой палаты стечению горожан и войск, теснившихся меж тремя храмовыми взгорьями – и оступился (после пережитых потрясений), едва не выронил скипетр, охранявшие государя камер-казаки не заметили обморока, удержал монарха и не позволил осесть на камни находившийся рядом регент. С тех пор, бывая в Москве, Николай Александрович непременно навещает хор, величающий исключительного гостя отрепетированными под управлением Виссариона Петровича концертами Бортнянского; помолившись перед иконой Владимирской Божьей матери – с младенцем на руках, так похожим на царевича Алексея, – монарх и регент удаляются в ризницу и средь ветхих книг, хоругвей и тусклых старинных чаш – «святых даров», долго беседуют, обоим ясно без уверений: их грезы одинаковы – о благе бесконечно любимой, достойной лучшей доли родины, о счастливом исцелении наследника.
Одно из посещений завершилось пожеланием: Николай Александровича просил Виссариона Петровича сопроводить в прогулке по Москве императрицу и венценсных детишек. Регент повел Александру Федоровну, Ольгу, Марию, Алексея, Анастасию и Татьяну тем путем, каким папа и мама водили его, ребенка, к заутрене, и рассказывал монаршей стайке – о прозорливом Юрии Долгоруком, заложившем на мысу меж большой рекой и ручейками «мал град древян Москву», о подворьях монастырей – Троицком, Новгородском, Алексеевском, Воскресенском, о запрестольных иконах Спасителя и Божьей Матери…
Особенно понравилось царским детишкам предание о мощах святого Ионы. «От ветхозаветного страдальца Иова до нашего русского подвижника Ионы зазор в галерее святых – меньше шажка!» – внушал регент затаившим дыхание слушателям: когда в 1812 году французы разграбили сокровища Успенского собора, спилили крест с колокольни Иоанна Великого и переплавили его в золотые слитки, посрывали с икон серебряные оклады, осталась нетронутой лишь рака с останками Ионы. Стоило врагам приблизиться к ней, и окаменевали, делались недвижны, не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Разгневанный Наполеон лично прибыл из штаба, устроенного им в Чудовом монастыре, надеясь преподать трясущемуся от испуга войску пример бесстрашия – победоносному завоевателю было невдомек: он преступил запретную грань, за которой простирается защищающее Россию Неизреченное Чудо. Полководец в треуголке едва не умер от ужаса: Иона, чьи мощи хранила рака, выпростал из ковчега высохшую длань и погрозил пришельцу. Покоривший Европу император содрогнулся и спешно покинул Москву...
Следовали – сквозь Боровицкие ворота – вдоль Болотной и Моховой (названия повторяли ропот колыхавшегося на поросших мхами болотах соснового бора, а камешки, выбоинки, щербатинки мостовой и стен приветственно окликали Виссариона Петровича), по Ильинке достигли Ипатьевского переулка (все, связанное с именем преподобного Ипатия, было значимо для жадно вбиравших сведения познавателей: на царство династия венчалась в Ипатьевском монастыре – близ Костромы), затеплили свечи перед деревянным распятием в церкви «большого креста», построенной в 1680 году архангелогородцами братьями Филатьевыми. Виссарион Петрович восклицал: «Русские земли туго стянуты, словно наипрочнейшей бечевой, подвигами прославивших Русь заступников-предстоятелей! Сходятся, перекрещиваются, совпадают и вновь разноустремляются их пути, чтобы встретиться в Семихолмной, с каждым годом хорошеющей Москве!».
Поступило предложение: обучать августейшее потомство нотной грамоте. Но музыкальные уроки не задались: петербургская дворцовая гипертрофия претила регенту. Распутин разделял его неприятие: «Устрою в Зимнем и Аничковом музеи! Очищу залы от продырявленной жучком-древоточцем скрипучей мебели, спальни – от ночных ваз, столовые – от чадящих миазмов, танцевальные комнаты – от скачущих галопов; вымету с неприбранных улиц, из-под взятых в золоченые рамы окон расклевываемые воробьями и воронами конские яблоки; наполню – скульптурой, живописью, самооткрывающимися шкатулками, макетами фонтанов и каруселей!
Увы, скелеты в дворцовых шкафах не захотели покидать злачные стойбища-лежбища-пастбища Зимнего капища и Летнего и Таврического садов…
Поощряемый взглядом страстотерпца Ионы, регент отделил, вытянул из крепления-тябла в северной части пристенного деиисусного ряда левую треть складня, привезенного – полтысячи лет назад! – из Соловецкого монастыря. Вменялось взять в поездку образ Иоанна Крестителя, об этом между строк извещало послание государя. Обернув внушительных размеров доску мягкой холстиной, Виссарион Петрович простился с Мефодием и вышел, с оттягивающим руку грузом, под моросящий дождь.
Нанятый возле Спасских ворот экипаж тащился до Николаевского вокзала дольше часа, регент извелся понукать извозчика. «Какой Крым?! Какая поездка?» – не переставал корить себя он. Хотелось выпрыгнуть, устремиться домой! Но вместо этого Виссарион Петрович прижимал икону к груди и продолжал черепаште движение.
В Петербурге замешкался на перроне, не зная, как правильнее добраться до Царского. На извозчике? Займет уйму времени. (Тем паче, если окажется, подобно московскому, тихоходом.) На пароходике? А вдруг поднимутся ветер и волны?
Если бы не присланный Григорием Ефимовичем Распутиным автомобиль (шофер разыскал регента на платформе), Виссарион Петрович, пожалуй, не поспел бы к отправлению спецсостава. Водитель в кожаном шлеме и кожаной куртке (похожий на чумазого кочегара) промчал регента по прямым петербургским проспектам с таким ветерком, что не приученный к лихости измочаленный домосед вжимался в мягкое сиденье.
Когда, раскланиваясь с пассажирами эшелона, Виссарион Былеев шаркал за Григорием Ефимовичем под прозрачным козырьком Царскосельского вокзального павильона к шестому вагону, предназначенному для свиты и лекарей-докторов, старец доканал москвича (оба они находились в перекрестье недобрых, колючих взоров): «С детьми надо обращаться, как с врагами. Где силой, где хитростью заставлять поступать по-своему. Я с дочерями и сыном обхожусь именно так… – Григорий Ефимович наморщил лоб, закатил затянутые белесоватой поволокой глазищи. Еле уловимым движением суховатой, с чернотой под ногтями руки перекрестил регента. – В Риме Петруша задержится надолго. Потом – Тобольск. Если, конечно, государь послушает еврея…».
Показалось: Распутин бредит. Виссарион Петрович впился в локоть провидца: «Какой Рим? Какой Тобольск?».
Взгляд Распутина становился осмысленным, посюсторонним: «Детям надлежит избыть то, что недовыполнили предки. Таков закон. Мы с тобой, Висса, должны сделать все, что в наших силах. Не отпускай государя одного. Многое может изменить разговор Николая Александровича с евреем. Шимон его зовут. Запомни: Шимон…»
УДАВЛЕННИКИ И УБИЙЦЫ
Подъезд многоквартирника, куда вошли запорошенные снегом большеносая женщина и ребенок с поврежденной рукой, произрастал, как из грибницы, из неистребимого фундамента древнего, в незапамятные дни воздвигнутого и, спустя века, улетучившегося монастыря.
Первым испытанием для обители, зародившейся средь буйных лесов и вблизи бьющего под могучими дубами прозрачного источника, стал набег кочевников. Смоляными факелами гикающие перекати-польцы пытались подпалить стены мирной цитадели, сложенные из плотно пригнанных одно к другому неохватных бревен, но тесовые стволы (для пущей прочности выморенные в водах живительного родника) и резной заборчик примыкавшего к крепости цветника не занялись и не закоптились. Успевшая укрыться за надежным заслоном братия затянула заздравный фимиам Спасителю.
Не слезавшие с коней хищноглазые всадники (даже нужду они справляли, орлино приподнимаясь над седлом и упершись кривыми ступнями в стремена), яростно нахлестывая мускулистых скакунов, вздымали их до верхних венцов бастиона, но иноходцы, напружиненно взвиваясь, не могли прорвать невидимую, до неба простиравшуюся прозрачную непреодолимость хранившего Божий град покрова. В узеньких зарешеченных дозорных окошках завоеватели видели посмеивающихся насельников.
Тараном, взгроможденным на разновеликие, из придорожной липы выточенные кругляши-колеса, взбешенные захватчики вознамерились разметать воспринимавшиеся шаткими ворота и сделать пробоину в раскисшей части земляного вала – напротив зеленеющего тиной рва, но дразнившая невоспламеняемостью загадочная непроницаемость отбрасывала галдящую орду. Чернецы голосисто возносили хвалу Всевышнему.
Отвергнув тактику устрашающего нахрапа (не нанесшего оборонявшейся стороне ни малейшего ущерба), иссякше откатившиеся к исходному рубежу неугомонцы устремились на приступ, используя непривычное для равнинных жителей вскарабкивание по отвесной круче и цепляние за сучки-задоринки, однако, безлошадный штурм не задался: смельчаки паучьи зависали на высоте, опутанные своими же пеньковыми жгутами, либо маслянисто сползали по гладкой, будто отлакированной палехскими мастерами, плоскости. Продолжавшиеся в осажденных недрах напевы вводили наружних слушателей в исступление. Заткнув уши пенькой и нунчаками, спотыкавшиеся от изнеможения коневоды стреножили вспененную копытную подмогу и разбили походный лагерь.
Взятая на вооружение изобретательным врагом выжидательная позиция обрекала удерживаемых в тисках осады схимников медленной мучительной гибели, но вылущить и растоптать ядро Христовой веры атакующим по-прежнему не удавалось, скорлупа православной твердыни не давала трещин: лишенные пищи и влаги отстаиватели терновой неуступчивости не предались отчаянию, измор, длившийся три долгих жарких месяца, их не сломил. Журчащий родник волшебным образом переместился в сердцевину удушающего кольца и снабдил узников кристально чистым прохладным питьем. Затягиватели петли принужденно утоляли жажду из гниловатого рва и покрытого ряской озерца, которое в доосадные времена использовалось для полива огородов.
Инок Авксентий темной ночью, стараясь остаться незамеченным, пробрался к дубраве, чтоб раздобыть питательных кореньев и желудей, но был схвачен и подвергнут пыткам. Истязуемый не просил пощады и к изнуренным своим товарищам о заступничестве не взывал, они добровольно, еле волоча ноги и пошатываясь от истощения, вышли и объявили: «Не покинем друга сваво, не отдадим на поругание». Победители торжествующе ринулись в кельи, круша утлую монашескую утварь.
Перед казнью защитники неколебимых устоев прощально расцеловались и зафальцетили: «Славься в Сионе…». Ятаганы, копья и секиры выскользнули из рук палачей и заштопали-замуровали входную прореху, а частично поступили в распоряжение приготовившихся умереть жертв. Злодеи сами оказались в плену. Не чаявшие избавления, но отпущенные на все четыре стороны, они, перед тем, как с позором умчаться, закидали не сдавшийся оплот (и отовсюду заметный, предостережением для будущих посягателей вздымавшийся крест своего поражения) – головешками разметанных костров, в которых дотлевали соломенные лежанки и прочие аскетичные пожитки нестяжательных (а потому неуязвимых) братьев во Христе. Сама святыня не задымилась и не обуглилась.
Претерпевшие муки смиренцы восстановили силы и продолжили молитвенную и трудовую поденщину: били поклоны перед образами, выращивали морковь и репу, пряли лен, припасали на зиму бруснику и тыкву, не отказывали в приюте сирым странникам, участвовали в возведении начавшей разрастаться поблизости деревушки. Из лесной чащобы приблудились волк и медведь и стали ручными.
Благоденствие длилось, пока дождливой ночью в окованную медным утолщением калитку не постучались (коварно тихо) тяжело выпроставшиеся из седел рыцари в громоздких доспехах и шлемах, имевших форму песьих голов. Обремененные массивной сбруей буцефалы гулко громыхали увесистыми подковами. Усыпленная спокойным течением бытия община почивала. Волк-собака не залаяла, косолапый плясун не зарычал. Сторож, застигнутый врасплох и пребывая во власти тягучей дремы, не озаботился иерихонским ржанием и наглостью настойчивого, все громче звучавшего смеха, неосторожно глянул в смотровую щель и был пронзен пикой, протиснутой в узкую, как у почтового ящика, прорезь. Гортанный убийца, расширив проем ударом алебарды, отодвинул рукой в чешуйчатой металлической перчатке внутренний засов. Внушительно вооруженный отряд с лязгом вступил во двор и изрубил крестообразными мечами камень, древесину, растянутые для просушки холсты и подвернувшиеся протестующе взметнувшиеся человеческие конечности. Игумен успел взобраться на колокольню и ударил в набат.
Подспевшая деревенская дружина кольями, оглоблями, хворостинами изгнала неуклюже ворочавшихся в негибких доспехах истуканов, некоторых столкнула для охлаждения в затянутое ряской озерцо. Прочие громыхаи, унося ноги, потрясали кулаками и обещали вернуться лет через пятьсот-шестьсот. А, может, и раньше. Искромсанные тела монахов положили рядком возле живительного источника и окропили. Отчлененные головы утвердились на кровоточащих шеях. Приросли руки и ноги. Воскресшие страстотерпцы выловили из мелкобродья недоутопших барахтальщиков. Угостили их, дрожавших от озноба, крепким сбитнем. Оценив достоинства предложенного напитка, согревшиеся интервенты скинули панцири, опустились на четвереньки и лизались с медведем и волком.
Очередные лазутчики – подгадав наикульминационнейший момент всенощной службы – змеисто вползли в главный храм через тайно вырытый ими подкоп. Застигнутые врасплох распевавшие акафисты послушники отнеслись к вторженцам (и их шелковым, по-женским длинным балахонам) без предубеждения, а те в недопустимо директивном тоне потребовали от не прервавших литургию хористов присягнуть (и притом немедленно!) правильной, как они изволили выразиться, религии. Устав ожидать исполнения своего категоричного приказа (не понятого продолжавшими осуществлять привычное таинство по заведенному канону тугодумами), миссионеры спустились в подвал-кладовку, на которую наткнулись, лопатя подземный ход, и предались пиршеству. Провианта и настоек хватило надолго. Огрузшие ясновельможцы не показывались на поверхность, пока не съели и не вылакали все, а когда, бледные из-за отсутствия солнца и свежего воздуха, высунулись, не могли не проникнуться прелестью окружавших пейзажей, примкнули к пасхальной процессии, а на праздник водосвятия окунулись в студеную родниковую купель.
Эпидемия чумы (по слухам, накликанная кальвинистами, гугенотами и одним из двух не утвердившихся на русском престоле Лжедмитриев) выкосила отшельников – сберегателей исконности – и прикипевших неофитов. Кельи опустели и подернулись паутиной, звонница онемела, мимоезжие и пешие путники, опасаясь притаившейся в руинах болезни (она могла выпрыгнуть и вцепиться в каждого!), огибали смертоносные развалины стороной. Скорбя, окрестные поселенцы постановили: предать обветшавшее урочище выжиганию. Взыгравший кастальский гейзер (так его с тех пор называли) оросил заросшую бурьяном пустынность, извел (о чем бесстрастно повествует летопись) инфекцию, брызги, упав, указали точки первовсходов будущих огнеупорных башен.
Нашествие элегантной армии, вторгшейся с барабанным боем и в лайковых перчатках на избранную Господом для взращивания белокаменных палат делянку, ненадолго отсрочило появление лепестковых архитектурных соцветий. Насморочно грассирующие солдаты, занятые, в основном, вылавливанием из тинистого пруда квакуш (которых – перед тем, как с жадным чавканьем съесть, окунали в обнаруженные в подмонастырском подземелье бочки с порохом – деликатес ввергал ортодоксально постившихся кондовых укорененцев в помрачение), улучили межобжирательную паузу, облили шаткий иконостас лампадным маслом (в изобилии имевшемся в других бочках, но по причине несъедобности не оцененном лягушатниками: в нем не замаринуешь улитку или слизняка) и на длинной жерди поднесли пылающую паклю к намалеванным стародавними богомазами ликам. От пламени киот загустел (показалось поджигателям, яичницей-глазуньей), бугристые желтки обернулись ризами, белковая известковость подернулась ровнехонькой майоликовой, как майонез с измельченным укропом, мозаикой, фасады сорганизовались в стройный церковный ансамбль-перечницу. Витязево, плечом к плечу, сплотились купола. Чарующий колокольный звон поплыл над пепелищами, спроваживая недовкусивших ратной виктории и валтасаровых услад поджаривальщиков. Над грабительски разоренными угодьями, в обрамлении рассветов и закатов, взошло посреди звездной Псалтири лучащееся светило – льнущий к Богоматери Кучерявый Малыш. Ласточки и стрижи оплетали нерасторжимый союз недолгого Успения и вечного Воскресения виньетками в форме сердечек. Умевшие читать обнаруживали в птичьих виражах выведенные в небе, как в тетрадке, буквы имен первых монастырских настоятелей.
Истовее, одержимее свирепели нападки на неопалимую вотчину. Почившие монахи, сторожуя свой обетованный оазис, не сдобровали против святотатцев, низведших необоримый надел до юдоли истязательств: трапезная превратилась в пыточную камеру, из столярной мастерской сюда перефуговали ставшие орудиями издевательств над арестантами стамески и плоскогубцы, католический лаз (почитавшийся музейной достопримечательностью) приспособили под нужник и топили в нем приверженцев непорочности. Воскресая, убиенные омывались в сочившемся сквозь нечистоты роднике, но после насильственного вымокания в отхожей яме стыдились являться людям.
Крест на колокольне изуверам подломить не удавалось, он рухнул сам от удара молнии – вряд ли случайной, она упредила взрыв недоопорожненных пороховых бочек с остатками наполеоновско-робеспьеровской лягушатины, сим гремучим детонатором планировали раздолбить отторгавшие огонь остовы рассыпающихся построек. Прахи, потревоженные вестью о готовящемся антибожественном салюте, окутали многовековое пристанище плотной пеленой, благодаря которой летчики-асы, потомки закованных в латы рыцарей, не могли – даже на бреющем снижении – разглядеть искалеченную молельню и бомбили ее наугад (но столь интенсивно, будто аэродром или штаб). Фугасы, «зажигалки», фаусто-мефистофилевские фау-патроны – возможно, еще и по причине ослепленности мстителей ненавистью, летели мимо или, притянутые родником-магнитом, мягко, не вздымая почву веерным дыбом, утекали по водоносным пластам туда, где сошли с конвейера, и вершили разрушения в далеких противничьих тылах. Пилотируемые вполне цивилиозованно обмундированными (а не песьиголовыми) люфтваффовцами, железные стервятники распадались на части и складировались в затянутое ряской озерцо рядом с проржавленными доспехами предыдущих носителей металлолома.
«Монастырь – первый, и последующий, всегдашний, не исчезал и не исчезнет, – внушала Антону Евфросинья. – Его благость пребудет до Второго Пришествия, а, может, и дольше!»
Евфросинья прибавляла: после войны группа энтузиастов, обозванных властью вивисекционно-рассекающим словечком «сектанты», взялась обихаживать исток чудотворности – окафелила иссыхающую криницу, посадила молоденькие деревца, подмалевала шелушившиеся фрески. Но остатки останков уже не откликались на доброту – снег валил в обескрышенные пустоты, дождь отбивал чечетку на треснувших ступенях, чертополох и крапива агрессивно гнездились на уступах былого неупадничества. Вонзавшиеся в небо сторпила навевали мысль о поломанныж ребрах обглоданного бурями исполина, ставшего после перемалывания беспозвоночным.
Испив чашу унижений, кои было не снести (а снесение неминуемо подразумевалось) и не желая повторить участь соседних и отдаленных скитов, монастырь в одну из ночей истаял, иссушив родник; обесцерковленный (и обезводевший) компост поступил в распоряжение вавилонски перенаселенной девятиэтажки – контурно схожей, полагала Евфросинья, с улетучившейся (но не исчезнувшей, значит, полностью) храминой. Одноного устоявшие (а мнилось – отпрыгнувшие к краю взбурлившей стройплощадки) ясени, липы, тополя с нескрываемым тремором (похоже трясутся чудесно помилованные жертвы, пятясь от прохаживающихся волзе плахи палачей), взирали, не чая осенившей их стволы и кроны нетронутости, на забубенных, недоотмытых, хронически недовысыпавшихся и кое-как одетых неоприхожан – не молившихся, не исповедывавшихся, злоупотреблявших, в отличие от прежних благочестивых богомольцев, алкоголем и табаком.
Россказни Евфросиньи о якобы ощутимо разлитом – в задымленном «Казбеком» и «Беломор-каналом» воздухе – сдобном аромате воскуренного ладана и бесплотной пастве, стекающейся к невидимому амвону: «Человечьи души слетаются к молитве, как голуби к крупе!», подтвердились, когда наспех проложенная близ дома теплотрасса обнажила ячейки могильных сот. Средь оскаленных мумий выделялась фигура в хрупком клобуке: сложенные на груди руки удерживали тусклый медный крест. «Авксентий Желудев» – значилось на атласной ленте, охватившей седую шевелюру.
Поглазеть на невидаль сбежалась детвора. Взрослые тоже пришли и тихо переговаривались. Яму оцепили гирляндой трепыхавшихся на ветру флажков – бригадир натянул их меж криво вбитыми кольями. Прибыли строгие дяди в костюмах и тщедушный старичок-священник, он просил передать нетленные мощи церкви (пока не утрачены под воздействием ливневых осадков), мужчины в костюмах посовещались и отказали. Подрулил грузовик, рабочие (те самые, что обнаружили клондайк погребений), совковыми лопатами переправили в кузов прахи и черепки. Клобук хотели забрать в музей, он обратился в пыль. Участковый Николай Захарович оттеснил зевак. Тут и коснулось ушей Антона жалобное, повисшее над траншеей: «Иже еси на небеси...» и «Ныне отпущаешь…». Николай Захарович обвел собравшихся испытующим взором. Кто устроил провокацию? Оказалось, псаломили (к вящему удивлению участкового, Антона и прочих свидетелей) зашвырнутые в грузовик солисты. Покружив над вскрытым ульем (не пчелками, а поземкой песцовых серо-вьюжных – а ведь стоял август! – хвостов) певуны развеялись.
С той поры во дворе и впрямь нередко звучал колокольный благовест, а собравшиеся слушатели глазели на будто бы видневшиеся над купой тополей купола. Девчонки (сверстницы Антона) относились к «миражникам» сочувственно, игравшие в казаков-разбойников или гонявшие по газону тряпичный мяч мальчишки высмеивали придурошных: «Больные, и не лечатся!».
С приближением сумерек юродивых сменяли оборванные, обезображенные вздутиями и сыпями на коже увечные попрошайки, они группировались там, где, согласно уверениям Евфросиньи, некогда была паперть. И чудесным образом (уж не под воздействием ли высохшего волшебного родника?) – исцелялись, стерев тряпочкой наведенную красками или губной помадой «рожу», «проказу», «экзему», даже прозревали, сдергивая повязку с не обельмованных глаз. У безногих и безруких вырастали недостающие части тел. Балаганно переругиваясь, шайка в лохмотьях подсчитывала выручку. Купюры и монеты высокого номинала оставляла себе, мелочевку разбрасывала по асфальту. «То-то бы порадовался Харон!» – говорила при виде этих россыпей Евгения Казимировна Ивановская, вселившаяся в послемонастырский дом вслед за мамой и Антоном. Еще один квартирный сосед – худющий, страдающий несварением желудка Никодим Сердечкин, в отличие от покладистой Евгении Казимировны, исходил стервозностью: «Псевдо-нищие делятся с участковым нетрудовыми доходами, вот Николай Захарович и смотрит на этот антиобщественный элемент сквозь пальцы!».
В предзакатных лучах монеты переливалась чешуей дракона. (Не того ли, которого пронзил копьем покровитель Москвы святой Георгий Победоносец? Побывав на небе, Антон узнал: медной милостынею вымощены надоблачные дороги, но денежно-облицовочного материала всегда недостает, поэтому следует жертвовть просящим как можно больше). Отдельные крохотно сиявшие овалы уворовывали вороны, им нравилось все блестящее (но, возможно, птицы преследовали малопочтенную цель: мешать упрочнению небесных магистралей, вот и уносили подобия маленьких солнц птенцам), монетки проскальзывали сквозь прутики гнезд, падали на газон, выкатывались из двора на улицу, становясь добычей прохожих и намеренно охотящейся за прибылью детворы – собранной в кулачок суммы хватало на фруктовое сиреневого цвета мороженое!
«Так заботятся о вас, младенчики, небесные покровители», – ликовала вместе с малышней Евфросинья.
Ее предсказание о монастыре, который непременно возродится, Антон вспомнил, став взрослым и побывав в Праге, где над Вышеградом осязаемо реет невидимый собор Иоанна Предтечи, умышленно и дальновидно опрозрачненный зодчими – ради необнаружения их искусного творения всюду шнырящими уничтожителями прекрасной исключительности: стоит вынюхивальщикам запеленговать шедевр или натолкнуться на образец нерасхожести, и неповторимость будет истреблена! Очень редко непошлости удается себя обозопасить – неуемным разрушителям неймется, они просеивают и выявляют: что еще уникальное можно разломать и расквасить? В целях сбережения находящихся под угрозой исчезновения экспонатов учреждена в потайном уголке Вселенной безразмерная (огороженная и неприступная) кладовка, там хранятся модели всех когда-либо ездивших по дорогам, рельсам (и монорельсам, и бездорожью) автомобилей, паровозов, трамваев (неудачно сконструированных – наряду с выдержавшими испытание), соседствуют слепки и оригиналы глиняных шумерских табличек и новгородских берестяных грамот, учтены (на случай, если человечество впадет в беспамятство и не сумеет без подсказки восстановить пройденный путь) находящиеся в статике и развитии разновидности отслуживших и нарождающихся способов народоуправления, проекты госустройств и тепло-электростанций; пребывают в первозданной неприкосновенности тунисский Колизей и римский водопровод, а целехонькая Сухарева башня (с вмурованной в нее тетрадью колдуна Якова Брюса) покоится рядом с обернутой теплоизоляционной водонепроницаемой пленкой Янтарной комнатой; громоздятся отреставрированная, под собственным весом рухнувшая статуя Колосса Родосского и прошитые самолетными заточками небоскребы нью-йоркского Торгового центра; пляшут на приколе каравеллы Христофора Колумба и прощально гудят сгинушие в пучине Бермудского треугольника торговые и военные суда; посверкивают не помятые метеоритами космические шатлы; сгрудились Атлантида, Гиперборея, первый Иерусалимский храм, синусоидный, как до обрушения, Генуэзский виадук и пострадавшие при землетрясении глинобитные хижины Спитака… Разграбленный гитлеровцами Петергоф и стертый с лица земли Храм Христа Спасителя возвращены (или ненадолго одолжены?) Балтийскому берегу и Москве – непосредственно из этой богатейшей коллекции.
В копилочную прорезь опущены ленинградские, дрезденские и киевские жилые кварталы, расколошмаченные в 1941 – 1945 годах, а также поглощенный Олимпийским проспектом Самарский переулок, где в деревянном домике росла бабушка Антона Анна Вихерт… Перетранспортирована и развернута в надоблачной кладовой булыжная улица Бахрушина: камни ровнехонько укладывали пленные вермахтовцы, среди них – Ганс, жених не ставшей балериной тетушки Клары, в наземной Москве лежит близ Павелецкого вокзала бледная копия этой улицы с краснокирпичным зданием театрального музея. Плющиха и три Неопалимовские переулка перебазировались в сочленяемую на протяжении веков преобъемнейшую экспозицию – визуально переиначив ее вкраплением кубически безликих диппредставительств.
Наряду с материальными, вещественными артефактами, в фондах собрания (в специальных банках: металлических, стеклянных с крышками и информационных – но их правильнее именовать «дайджестами») законсервирован воздух разных широт и эпох, присутствуют стенографические отчеты всех без исключения конференций, заседаний и конгрессов, имеются звукозаписи докладов, произнесенных с трибун, кафедр и балконов, зафиксированы проскочившие мельком в головах возражения и замечания (начисто отвергнутые и бурно одобренные, плюс нашептанные внутренним голосом ругательства, включая многозначительные междометия); пронафталиненные шубы соперничают с пронафталиненными репризами известных и посредственных конферансье, афоризмы и крылатые выражения помещены в несгораемые футляры различной величины с пришпандоренными пояснительными метками; воплощенные и незадавшиеся идеи рассортированы по остекленным, удобным для обозрения витринам; проекции состоявшихся и не сложившихся судеб (их варианты и эскизы) дополнены вспомогательными набросками мечтаний; по стенам развешены или сложены в многочисленные высокие и низенькие штабеля (иногда свалены в объемистые короба) портреты мужчин, женщин, стариков, старух, детей – послойно запечатлевшие переменчивость лиц и туловищ – вплоть до мельчайших изгибов бровей и ресниц, линий губ и ведущих к победам или поражению линий на ладонях... Перечни находящейся на балансе разносортицы регулярно переуточняются и инвентаризируются, свежие поступления приходуются, предыдущие – индексируются (в зависимости от амортизации), их стоимость соотносят с курсом золоторезервных запасов, о ревизии составляют акт.
В пыленепроницаемых (и пуленепробиваемых) ангарах на стеллажах томятся в ожидании быть затребованными и пущенными в оброт своды утративших актуальность законов и тома поправок к ним, чертежи градостроительных пертурбаций, дипломатические ноты и ноты законченных и незаконченных музыкальных произведений, литературные экзерсисы и их черновики, дневниковые записи частных граждан и подлинники правительственных указов. Почетного места в бумажном запределье удостоена скрепленная суровой нитью тетрадь мудреца Шимона: ради ознакомления с этим непреходящего значения конспектом стремились (и стремятся) проникнуть в оберегаемые от посторонних посещений воздушные закрома многие пытливцы, иные, проплутав в поисках вожделенного эталона всеведения долгие годы, свернули на окольные тропы и, разуверясь в успехе, отказались от притязаний, другие, в блаженном самоубеждении: поход приведет (не может не привести!) к намеченному триумфу, не прекращают стараний и, не жалея себя, пробиваются – туда, где, спрессованы рулоны отснятых и засвеченных кинопленок и громоздятся пирамиды запиленного грамофонного винила, а среди и вышедших из употребления патефонов и диктофонов раскинулись архипелаги ломких от времени дамских сумочек и стога мужских помочей.
Антон не исключал: путь в запрятанную меж созвездиями (по неустановленному пока адресу) сокровищницу пролегает через ее надземно-подземные предварительно-накопительно-перевалочные терминалы – отправной точкой связующей тот и этот свет экспедиции мог стать перекопанный теплотрассой дворик (следовало призвать провожатыми переливчато-поземчатых, как песцовые хвосты, измогильцев) или выстроенный по проекту Корбюзье на задворках Петроверигского переулка террариум для выдающихся деятелей Третьего Интернационала (его обитатели владели уникальными, захватывающими мемуарами), средь провалов-перемычек-прободений (с двойным, как у раритетного шпионского чемодана, дном) выделялись желтенькое, примостившееся неподалеку от этого террариума цыплячьего цвета лукошко, взлелеявшее трех братьев-врачей Боткиных (и больницу их имени на Беговой), и подзорно-башенно-округлая, с бубновыми прорезями окон, нацеленная в галактические дали цилиндрическая жилая труба Мельникова на Арбате… Московские, сопряженные с вечностью башенки Шехтеля, Кекушева, Жолтовского маяково угадывались в размытых очертаниях собора Парижской Богоматери и лондонского Тауэра. В треугольной четырехугольности белесо-желтых египетских пирамид и испещренном угольными подпалинами песчанике коллонады Сан-Суси скрывался прототип альбома черно-белых фотографий бабушек Оли и Лены. Безжалостно срубленные серебристые тополя сквериков Пречистенки и Остоженки качались метрономами внутри стеклянно-глянцевых нью-йоркских и чикагских высоток...
Коломбо, Сан-Франциско, Тобольск, Антверпен… Но в начале начал отправными материками (неколебимо якорными, при том, что порт приписки разрешалось беспрепятственно покинуть) надежнели – жилетно-резиновый, надувно-продувной спасательный Неопалимовский, брошенный Выручальщицей-Судьбой тонущему, но барахтающемуся ребенку (при нулевой безгрошовости) алтын, и не поспевавший (и не спешивший) за эпохой, патриархальный, с ленточными лепными фасадом и удавьими перилами широких лестниц, подвально до-потопный, в толщу небытия опускавшийся (вслед за своим ровесником «Титаником») особнячок-ларец – украшение неказистого Еропкинского переулка, в том подземелье – и после того, как умерли – остались вековать: папа, дедушка Петр, три бабушки и считавшиеся полноправными членами утопленнического экипажа неугомонный Григорий Ефимович Распутин и желчный, въедливый Константин Петрович Победоносцев…
Ни роскошно-люксовые номера пятизвездочных отелей, ни изысканные лофты, поделенные условными перегородками на спальни и кухни, ни новомодные пент-хаусы и таун-хаусы, ни полная снующих ящериц-геконов викторианская резиденция на вершине холма близ алмазного форта Голконда в Индии, ни ходивший ходуном под артобстрелом бамбуковый дзот в Зимбабве, где Антону довелось очутиться по журналистской надобности, не смели соперничать с наипервейше влившимися в память и кровь непотопляемыми ковчегами. Библейский Ной располагал недурственным плавсредством, спасшим человечество и бессловесных тварей из наводнения. Антон был облагодетельствован аж двумя не менее вместительными и просторными, скользившими сквозь шторма и поверх океанических впадин универсальными понтонами-паромами, умевшими трансформироваться (в зависимости от пожеланий и потребностей) в пиратские бриги, нефтеналивные танкеры, быстроходные глиссера, прогулочные катамараны, атомоходы, эсминцы, авианосцы, патрулирующие траулеры, сторожевые катера, сухогрузы, баржи, круизные многопалубники… Маневренно (и неотфильтровываемо) циркулируя в артериях и мозговых фиордах, они прочней прочного закалили храбрившегося салагу-юнгу, научили безбоязненно встречать пятые, седьмые, девятые накатывающие валы, помогли корсару, мнившему, что наматывание кругосветных петляний прибавляет лоцманских навыков, преодолеть коварно неприметные рифы и лобовые торосы, а потом, грозя вспороть бортами и мачтами стенки утративших эластичность кровеносных сосудов, закупорить тромбами форштевней гортань и легкие, разворотить лопастями износившуюся, заплатанную спайками мешковину сердца, взяли на буксир седовласого устальца.
Рента разрисованного цветными карандашами детства экономна и избирательна, да и сами карандаши, сплоченные в дрейфующий по ласковым и неласковым волнам плот, достаются непредсказуемо лотерейно, но, если уж достались, удержают на поверхности и не застрахованного от внезапного сбоя дыхания чемпиона (лихо одолевавшего дистанцию – брассом, кролем, батерфляем, пока икроножный и потерясамообладанческий спазмы не шуганули его с дистанции), и изначального неспортсмена, сброшенного (или выпавшего) за борт – изыми у того и другого карандашные соломинки-выручалочки, и осиротелец-балластник, лишившись подпруги детских счастливых воспоминаний, нахлебается гадостей, канет на дно.
Бескислородно-обморочная команда Еропкинского «титаника», хотевшего под айсберг асфальта провалиться от стыда за наставшую эру плебейского непотребства, потому и зарывшегося до середины окон-иллюминаторов нижнего ряда в донный илистый тротуар (иногда этому обозначенному в жилконторских бумагах «полуподвалу» отвешивали комплимент, называя его цокольным), из последних сил выталкивала лопоухого недотепу – к грезящимся сквозь сомкнувшуюся океаническую толщу алым парусам: вдруг парнишка не пропадет, вдруг уцепится за обломки мебели и межкаютных переборок, вдруг случайная шлюпка подберет подкидыша-ихтиандра и довезет до суши (а дальше сориентируется сам), ну, а мы на прощанье овеем мальчугана Григом и Шопеном – ведь продолжил же наяривать оркестр салютовавшего небытию круизного исполина, не надо многозначительных драматических пауз, недопустимо паникерство – в кубриках и на каптанском мостике, сигналы SОS из отрезанной от мира радиорубки бесполезны! В качестве навигационных компасов напичкаем наполняющуюся водой кают-компанию портретами великих представителей человечества, обвяжемся (как ни в чем не бывало) крахмальными салфетками (лебедино-обеденными – удавками!) и приступим к размеренной всегдашней трапезе – на вензельных тарелках и шелковых скатертях, пусть сияют перламутровые пуговицы и нефритовые броши, сверкает утяжеляющее шанс всплыть обеденное серебро, смена блюд произойдет при галстучной (опять, опять удавки!) строгой сдержанности… Пианино тренькало, услаждая погружавшихся в тишину мало того, что утопленников, так еще и висельников-удавленников!
Впротивовес подвальной кесонной снулости, кашалотно-левиафанья, кавардачно перенаселенная, безразмерная, как автобус в часы пик, вскинувшаяся над монастырским быльем Неопалимовская туша всеподрядно и безразборно вбирала-всасывала: планктон радио- и газетных рапортов об успехах соцсоревнования, продукцию колхозных полей и животноводческих ферм, сельдь пряного посола и ванильный зефир, изделия сталепрокатных станов и достижения международной сферы; прожорливой прорвой заглатывались таежные леса, сибирские реки и имущество тракторостроительных заводов; утробно отрыжное месиво сдабривалось скоропалительными влюбленностями, мелодраматическими расставаниями, незакамуфлированными сварами (никто не микшировал и не сглаживал ссоры), сквозняково сменявшимися симпатиями и ненавистями, легко расплавлявшимися в подтеках едкого желудочного сока (читай: репейного масла для швейных машин и портвейна «777»), обантураживалось хлипкими спрессованными из столярных опилок столиками на тоненьких комариных ножках, отклеившимися обоями, пластмассовыми ложками и полиэтиленовыми тарелочками, сползавшими в прямую мусоропроводную кишку – обобщенную клоаку разбитной, безалаберной, безудержной неприкаянности; гнулись и ломались алюминиевые вилки, сходились в чоканье широптребные граненые (как в столовой общепита) стаканы, лился уксус – не из хрустальных с изящно изогнутыми горзышками еропкинских подвальных графинчиков, а из грубых бутылок, им щедро окисляли фабричные, неведомо какими ошурками наполненные (но уж точно – не тремя сортами мяса, как положено), не дома вручную вылепленные, а «готовые», конвейерно запакованные в картонные пачки пельмени.
Мир не склеивался и не складывался воедино, при том, что два его полушария – Еропкинское и Неопалимовское – зипперно стягивали в глобусное целое схоже-неразличимые героизм папанинцев и самоотверженность покорившего на собачьих упряжках (при шестидесятиградусном морозе!) Южный полюс, а затем бесславно сгинувшего в упавшем близ Тромса самолете норвежца Руаля Амундсена, о нем, с целью межнациональной укорененности внука, увлекательнейше рассказывал дедушка; жаркие лучи свободы, взошедшей над сбросившей иго капитализма Кубой, не согревали затертое льдами суденышко «Красин» (где насмерть закоченел брат дедушки), на том ледяном ветру продолжали мерзнуть и сам отщепенствовавший дедушка, папа, бабушки; империалисты терпели крах в Африке, а в социалистическом лагере нескончаемо праздновали годовщины побед нескрываемые весельчаки-убийцы; невесомо-прозрачных тружениц – Евфросинью и маму – подминали расхристанные (горланно отрицавшие Христа) революционеры-захребетники Сердечкин-Головорезов-Махно и Панюшкин, а также подпевавшая им жена Сердечкина – бледная спирахета-дурында Неонила. В подарок на день рождения Антон получал от дедушки и бабушек альбом гравюр Гюстава Доре, а в коммуналке – рогатку от домработницы Головорезовых Ганны и подзатыльник от милиционера Николая Захаровича; от папы – перламутровый перочинный ножичек, от воришки Бориса – финку с выкидным лезвием. Со стен подвала смотрели портреты Льва Толстого, Ключевского, Римского-Корсакова, а под неопалимовскими окнами устроил пляску, сбросив пиджак и оставшись в косовортоке, редкозубый глава государства Никита Хрущев, чью лысину охладил, полив ее с четвертого этажа огуречным рассолом, прибывший из далекой северной Хатанги оленевод Степка (его родной дед, тоже Степан, помог сбежать на санях с копытно-рогатой тягой – из царской ссылки Льву Троцкому, несостоявшемуся жениху красавицы Ревекки)… Крайности подземного и верхотурного бытия соединяла в себе – какому миллениуму принадлежавшая? – коротко стриженая острожница (так она отрекомендовалась) Евдошечка, говорившая по-русски с парлефранцузским прононсом…
Коммуналка бурлила и подгоняла проявлять прыть: на кухне обсуждалось обещанное на очередном партийном съезде продуктовое изобилие, но приходилось выстаивать длиннющие очереди за макаронами – не больше двух кило в руки; дискуссии о братстве народов и дешевом кубинском сахаре перемежались выпадами в адрес задиравших цены на рынках грузин и армян (где бы, когда бы и с кем бы ни разговорился Антон, провинциалы неизменно костерили москвичей, москвичи воротили нос от окраин, французы ругали немцев, немцы – англичан, болгары винили цыган, а венгры – румын); овощное рагу оказывалось по недосмотру вовлечено в мыльную головомойку; подкрашенная синькой вода, стекая с повисших на веревках кальсон, капала в свиное жаркое, кастрюли и шкворчащие сковородки в ответ плевали на подштанники и майки кипящим маслом, не желавший густеть холодец умащивал желатином приготовленные к глажке простыни, детские распашонки плюхались в компот; единственный на весь сверхперенаселенный дом телефонный аппарат, повешенный охотничьим оленерогим трофеем на коридорную стену и похожий на высунувшуюся из-под обоев голову чертенка с рычажками во лбу и рыльцем-диском, чьими совратительски угодливыми услугами связи пользовались еще и посланцы соседних квартир (привилегию дистанционного общения получили – на тыщу жильцов двое! – заслуженные большевики Нестор Сердечкин-Головорезов и его жена Неонила), собирал вокруг себя десятки абонентов, жаждавших внутригородского и междугороднего соединения, если кто-то завладевал трубкой надолго и забывал: другим тоже надо погуторить сквозь мембрану, ему громко советовали повеситься на телефонном кабеле; трения возникали и по поводу запиравшейся изнутри на крючок кабинки туалета (в случае чрезмерно протяженной ее оккупации), а также из-за того, что в ванную, вернее, каморку, предназначенную для купального резервуара, упраздненного в годы гражданской войны и выброшенного за ненадобностью (полеживание в мыльной афродитской пене – излишество барчуков!), вселилась вернувшаяся из мест лишения свободы сухонькая Евгения Казимировна Ивановская, она же – Хейфец, она же – Евдошечка. С ее появлением «чистоплюи» (как грозно ошучивал недобитых буржуев сожитель Ефросиньи Борис) принуждены стали ополаскивать лицо и руки над кухонной раковиной, а по выходным, сложив в сумку полотенце, мочалку, мыло, свежую одежду, отправлялись в баню на Плющиху: приобретали в кассе входной билет, искали в наполненном теплым паром зале «шаечку» – продолговатый или круглый тазик, окатывали кипятком каменную скамью, садились или ложились на нее, терли друг другу спину. Кран, выкрашенный в красный цвет, снабжал горячей водой, из синего хлестала холодная. Антон опасался ошпариться, брезговал садиться на скамью, где до него кто-то скребся, он оскальзывался на подмыленном полу. Борис гоготал: впервые посетив баню и получив инструкцию «взять шаечку», он вообразил – нужно сколотить «шайку-банду», иначе на помывку не прорваться… Тазиков и верно не хватало, голых посетителей кишело больше, чем предусмотренных для них удобств.
Для Евгении Казимировны Борис соорудил в ванном закутке дощатый топчан. Электрик, присланный домоуправлением, подвесил на перевитом шнуре лампочку в 60 ватт (или, как выражалась Евдошечка, «свечей»), бывшая ссыльная обрела возможность читать: ванная не имела окон, старушка существовала еще и без притока уличного озона, как удалось ей затыриться (то есть прописаться) в нежилое помещение?
Она объясняла: вступился сэр Уинстон Черчилль. Оставшись после лагерной зги в Норильске («где все роют норы»), Евдошечка получила нежданное послание. Такое же сэр Уинстон направил председателю комиссии по восстанавлению прав несправедливо осужденных. Письмо извещало призванного восстановить справедливость чиновника: Евгения Казимировна совместно с Кларой Цеткин и Розой Люксембург приостановила немецкие газовые атаки на фронтах Первой мировой войны, а позже трудилась бок-о-бок с женой Ленина Надеждой Константиновной Крупской – разве супруга Ильича стала бы общаться с ординарной личностью? Председатель комиссии позволил старушке вернуться в столицу.
«Настал рай земной!» – блаженствовала Евдошечка, обложившись книгами и паровозно дымя папиросами, при этом картинно относила руку с лихо ввинченной в янтарный мундштук «беломориной», а чай пила (говорила: «чифирю») с пиленым отечественным сахаром (а не с кубинским рыхлым рафинадом), который колола острыми изящными щипчиками. Забавляла желающих выслушать, рассказами об избавлении от расстрела последнего русского императора. «Не зря я мыкалась по казенным тюфякам и нарам, – гордилась Евгения Казимировна. – Царь и детишки ускользнули от большевиков. И мундштук, память о моем папе, удалось сберечь».
Ее отец, получивший контузию в бою при Мукдене, отчеканил, окруженный японцами: «Будете выклянчивать у моих внуков разрешение рыбачить в дружелюбно названном нами Японском море, Сахалин вернете на блюдечке!»
Японцы посчитали: он сбрендил.
«С внуками я папу подвела, – сокрушалась, не слишком горюя, Евдошечка. – А пленные японцы, когда узнали, чья я дочь, угощали меня гашишем. Близ Курил, бывает, покуривают», – сообщала она.
Дополнительные сведения о плетущей неправдоподобности жиличке выплыли, когда погостить к Антону и маме приехала бабушка Ревекка. Ревекка пристально посмотрела на Евгению Казимировну, Евгения Казимировна – на Ревекку, обе всплеснули руками, обнялись и расплакались.
«Евдошечка!» – повторяла Ревекка.
«Рива!» – всхлипывала Евгения Казимировна.
Ревекка поведала Лие и Антону: поместье генерала Казимира Ивановского (чьей дочерью была Евдошечка) находилось рядом со Златополем, где жили родители Ревекки. Будучи фрейлиной последней русской императрицы, Евгения Казимировна отправилась за своей гранд-дамой в Тобольск и, продавая свои драгоценнсти, снабжала августейших арестантов через подкупленную стражу приемлемой едой, а в корзины, на дно, вкладывала записочки-схемы вызволения монаршей семьи из неволи. В Тобольске Евгения Казимировна вышла замуж за пройдоху Мойшу Хейфеца (сына известного харьковского ювелира), полюбила его без памяти. Когда Мойша бросил ее, хотела покончить с собой (очень прикипела к прохвосту), от рокового шага ее удержал негр Джим.
Сама Евдошечка интимных подобностей о себе не открывала. Как и того, что бывший муж – Хейфец (привлеченный в Тобольск, возможностью поживиться капиталом свергнутой династии), женился впоследствии на Лауренции Ротшильд, чье состояние измерялось миллионами фунтов стреглингов. Мойша быстро его промотал и устроился министром транспорта в советское правительство.
Поверить в столь амплитудно насыщенную падениями и взлетами биографию было сложно. Но однажды в гости к Евгении Казимировне пожаловал высокий чернокожий музыкант по имени Джимми. Он подтвердил, что в течение недолгого времени проживал (вместе с другими арапами и фрейлинами) в Зимнем и Александровском дворцах, являлся достопримечательностью Петербурга и принял участие сначала в Первой, а потом Второй войнах, вынудив кайзера Вильгельма и Гитлера пойти на капитуляцию… Седой Джимми играл на тромбоне в ансамбле Эдди Рознера. Навещая Евдошечку, он приносил банджо и шоколадки. Сольные концерты, которые закатывал во дворе (когда было тепло) и в подъезде (если холодало), пользовались огромной популярностью среди жителей микрорайона.
Джимми по-прежнему любил Евдошечку. И вновь сделал ей, теперь уже не юной придворной даме, а коротко стриженной близорукой старушенции, предложение руки и сердца, позвал уехать на Гавайи. Евдошечка сказала: «Босяк, какие Гавайи! Гальюн, а не галион, вот что нужно в мои лета». Она трепала приходившего выкурить к ней сигару-другую папуаса по кучерявым седым волосам, а негр скалил белые вставные зубы (настоящие ему выбили на допросах в казематах Петропавловской крепости и на Лубянке) и соглашался: «Да, я хоть и был босой, потому что сапоги пришлось отдать Распутину, обыгравшему меня в карты, но и босиком все же вынес струсившего Керенского из Зимнего дворца. Вовсе не он был в дамском платье, а бежавший за границу монах Илиодор! Этот псевдомонах не только платье вместо рясы напялил, но и лицо подрумянил и напомадил, и русую косу прицепил. И жену себе поодыскал – после того, как расстригся. Я всегда подозревал: дьяволу легче скрыть рога и хвост под монашеским или священническим одеянием. Позже я встречал этого смутьяна в Америке, он доживал швейцаром в третьеразрядном отеле. Я, как герой Пирл-Харбора, получил сапоги на микропорке…».
Евдошечка уточняла: «Однажды Джимми сказал Уинстону, чтоб не валял дурака и повстречался со Сталиным. И свел их в Тегеране, он вспоминает сейчас об этом междусобойчике».
Антон спрашивал маму: что за словечки впиякивает Евгения Казимировна – «междусобойчик», «босяк», «бикфордова папироса», «биндюжник Троцкий»? Мама растолковала: Евгения Казимировна выросла неподалеку от Одессы, там речь иная, чем в других городах необъятной советской родины.
Внимая солирующему на банджо афроамериканцу, Евгения Казимировна втрамбовывала в мундштук или в белую папиросную гильзу «Беломора» или «Казбека» смоченные духами «Красная Москва» кусочки ваты – во-первых, чтобы уменьшить количество оседавшего в легких никотина, во-вторых, боролась с распространявшимся из кухни зловонием (Ганна, домработница Сердечкиных-Головорезовых, жарила картошку на солидоле). Под воздействием «красномосковского амбре» (еще одно выражение Евдошечки) пришедшие на концерт зрители шалели: признавались в совершении неблаговидных поступков, каялись, обещали исправиться. Флюиды пробудили дремавшие нежные чувства даже в таких военизированно-непреклонных мужчинах, как летчик Тарахтун и участковый Николай Захарович (ничем иным не объяснить, что оба воспылали страстью к приехавшей проведать Евдошечку полячке Зосе), и заставили впасть в любовную связь миниатюрную заведующую машбюро издательства «Художественная литература» Клавдию Жемжур (ее приютила мама после развода этой «карманной женщины» с мужем, будущим самоубийцей) и высоченного китайца-переводчика Ван Ю Лина; одноногий Федор, избегавший говорить о войне, обнародовал захватывающие перипетии водружения красного флага над поверженным Рейхстагом. Неспортивный троечник Антон превратился в круглого отличника и ведущего баскетболиста юношеской команды «Динамо». Мама радовалась и тревожилась: хорошо, что Антон хочет стать мастером закидывания мяча в сетчатое кольцо, но плохо, что из-за красномосковских паров и под влиянием табачного дыма он собрался бросить школу – вот к чему приводит вдыхание галлюциногенных препаратов! Евдошечка отметала или беззлобно вышучивала смехотворные опасения. Она продолжала заниматься с Антоном немецким и французским, а попутно излагала новые сногсшибательности: одним из ее поклонников был разведчик Рихард Зорге. «Он прислал мне из Германии (прямо в барак, где заключенным разрешалась помывка раз в полгода!) чемодан душистого мыла».
Неужели Евдошечка была знакома с легендарным агентом? У Антона в коллекции (гораздо более скромной, разумеется, чем филателистические накопления Копилки Господа) имелась почтовая марка с портретом Зорге. Из книг Антон усвоил: Зорге дал знать в Москву из Токио о готовящейся Второй войне. Почему чемодан мыла прибыл Евдошечке из Германии, а не из Японии? Ответ озадачил: «Разведчики неразборчивы в предпочтениях. Он дружил с Риббентропом, был членом национал-социалистической партии. Его благоухающими брикетами обмыливался весь барак, пока орхидейно пахнущий брусочек не заговорил на идиш. Я идентифицировала голос моей подружки Ханны. С тех пор я разлюбила цветочное мыло и полюбила шибающий запах махры».
Мама ужасалась. А Евдошечка начала заниматься с Антоном еще и хинди.
Не менее колоритной представительницей квартиры, где обустроились после переезда из подвала Антон и мама, была пышнотелая широкоскулая и широкобедрая (как кустодиевская купчиха) приемщица химчистки Надя («квадратно-гнездовая!» – кобелино пожирая взглядом, подзаборно-сельско-трамвайно-железнодорожно-милитаризированно олексиконивал немогутно-тощий Борис неохватность ее простирающихся взлетно-посадочной кормой американского авианосца «буферов» и «откляченного» зада), безмерно обожавшая ясельно-сосочных и постарше шкод и плакс и регулярно беременневшая от постовых, что несли вахту возле Непальского посольства. (Евдошечка полагала: оно разместилось в Неопалимовском переулке – благодаря сблизившему далеко отстоящие географические точки созвучию: «непал» и «неопал»). Если находившимся при исполнении стражам приспичивало (а писуары в сортирного вида будочке, где дежурили бравые молодцы, не предусматривались, дипведомство сим деликатным невтерпежным нюансом почему-то не обеспокоилось), охранники, покинув ответственный пост, стремглав неслись в кустистый палисадник, но чаще – в квартирный санузел, снабженный удобной замызганно-белой лилией. Использовав каменный цветок по назначению, заглядывали к Наде (график работы и немногочисленность клиентов, самообстирывавшихся и редко прибегавших к услугам казенного пятноудаления, позволял ей находиться большую часть суток вне службы), засиживались (или залеживались) до полуночи, а то и до утра. Ни к кому из них, по неотложной надобности возникавшим, брюхатившим, а потом бесследно исчезавшим, Надя претензий не предъявляла, растила сыновей и дочек сама, не требуя помощь ни у безответственных отцов, ни у государства, вскармливая выводок тем, что раздобывала, ходя по магазинам с коляской, в которой надрывался очередной новорожденный, и в сопровождении мал-мала-меньше своры, болеющей свинкой, скарлатиной, ветрянкой, коклюшем… Мать-одиночку отоваривали любым дефицитом, лишь бы скорей ушла.
В комфортабельной кабинке с журчащим водосточным сливом часто закемаривал пьяненький Борис. Стучавшиеся в клозет нетерпеливцы (они скрещивали ноги, переминались и барабанили что есть мочи в филенчатую дверь) оказывались отрезаны от возможности облегчиться. Разбудить сонную тетерю не удавалось. Особенно страдал маявшийся хроническими поносами длинно-прямо-спинный, будто аршин проглотил, чернобровый и черночелочный, несмотря на преклонный возраст, Нестор Сердечкин-Головорезов. Его лицо искажала козлиная гримаса, он морщился и стонал, а для наглядной демонстрации невыносимости выпавших мук обхватывал живот и приспускал штаны.
Сердечкин не уставал трубно оповещать: в романтические революционные годы заклятые враги пролетариата траванули его, беззаветного ленинца и последовательного большевика (за что и удостоен персональной повышенной пенсии), подмешанной в тюрю тараканьей бурой (ею же была пропитана пуля в револьвере Фанни Каплан, сразившая Ильича), сильнейший (посильнее пургена!) яд продолжает разрушать пищеварительный тракт и нервную систему... Воинственный характер не позволял несгибаемому борцу за права трудящихся хныкать, Сердечкин стоически превозмогал кишечное недомогание, а выходки нарочно застревавшего (небезосновательно полагали многие) в сортире Бориса пресекал, просовывая в щель меж дверью и косяком боевой сабельный клинок. Подбрасывал лезвием внутренний запор-крючок... От металлического лязга Борис пробуждался (или делал вид, что пробуждался) и кричал: «Хотите зарезать? Дудки!». Он выбегал из санузла, не произведя смыв.
Почему «дудки»? Откуда «дудки»? Может, этаким словцом Борис корреспондировался к музыкальному реквизиту негра Джимми? Бывая на джазовых фестивалях и вечерах классической музыки в консерватории, Антон при виде духовой меди неизменно увязывал кларнеты, фаготы и саксофоны с хулиганом Борисом.
Сердечкины-Головорезовы щерились на Антона и маму. Если Антон, тренируя баскетбольную «обводку», начинал (в своей комнате!) гонять мяч меж стульев, пенсионеры-большевики строчили заявления в милицию. Приходил Николай Захарович, делал внушение «шумным жильцам», грозил поставить Антона на учет как трудновоспитуемого. Публично Сердечкины не афишировали, что завалили райисполком просьбами отселить Ганну (в комнату, которую предоставили маме и Антону): домработница ютилась на общей с пламенными революционерами жилплощади, за ширмой.
Антон недоумевал: прислуга – у революционеров? Разве такое мыслимо? Эксплуатация человека человеком – позор! Великая Октябрьская революция освободила рабов, уравняла их с рабовладельцами!
Маму огорчало, что ее хлопоты о переселении из подвала нарушили планы уважаемых ветеранов. Евфросинья на свой лад морфологизировала произощедшее (хорошо, что не «морфинизировала» – обмолвилась мама): «На то и рай-исполком – райский, а не районный исполнительный комитет!». Евдошечка проповедовала позицию социальной справедливости: комнату маме и Антону дали, исходя из правильной предпосылки – подросток должен взрослеть не в сыром подземелье. Сожитель Евфросиньи Борис трясся, не только негодуя на брутально-зазывные телеса многодетной Нади (которая тоже переживала, что комната досталась не ей и ее матрешечно похожей на нее упитанной россыпи), но и в неприятии ханжеской ширмы, мнимо отделявшей Ганну от зажравшихся нанимателей: «Ишь, шастает революционер к ней за ширму! А хотели еще и разжиться на ширмачка! Не вышло. Две комнаты – жирно даже для двоеженца!». Стоило кому-то из «гадюжьего отродья», как прозвал Борис Сердечкиных и их прислужницу, по забывчивости оставить в прихожей ботинки, туфли или валенки – обувь оказывалась непоправимо искромсана. Прищучить Бориса не представлялось возможным (он творил самосуд без свидетелей), а Николай Захарович захаживал к неофициальному мужу Евфросиньи – не для того, чтоб его стыдить и уличать, а чтоб распить с ним бутылочку «Горного Дубняка», «Московской» или «Старки». Николая Захаровича Борис уважительно величал: «Мой Н.З.», интерпретируя первые буквы имени и отчества участкового в качестве сверхлестной армейской аббревиатуры – каждый в курсе, она подразумевает: «неприкосновенный запас», то есть выдаваемый солдатам паек, к коему не следует притрагиваться до самой крайней необходимости. Николай Захарович, и верно, служил надежнейшим, неколебимым гарантом неприкосновенности бедового бузотера.
Евфросинья, после того, как утратила в пламени войны красавца-жениха Федора, пребывала в убеждении, что находится замужем за его святым духом. Что не мешало ей существовать (в малюсенькой комнате и на узенькой продавленной постели) с шебутным горлопаном Борисом. Она шпыняла его за пьянство и постоянно расстегнутую ширинку: «В доме покойника ворота нараспашку?», но куда больше угнетало повседневную труженицу (не желавшую признавать себя соломенной вдовой) неучастие выпивохи в одухотворяющем социалистическом созидании – ради торжества светлого завтра пожертвовал собой на поле сражения незабвенный Федор, а Борис отлынивал от малейшей (посильной) сомоотдачи! Непокладаяручная Евфросинья лечила иждевенца (потерянного для общества столь же инвалидно, как и павший Федор), используя новейшие медикаменты: в поликлинике Борису вшили в бедро ампулу «антабуса», растворявшуюся при взаимодействии с попавшим в кровь алкоголем. Согласно приложенной аннотации, лекарственная мина, стоявшая на чутком предохранителе, в случае попрания трезвости, взрывалась, обрекая нарушителя мучительной смерти. Борис продержался в страхе месяц. И причастился пива. Потом – вина. Расширил ассортимент… От четвертинки водки стало худо. Пульс зашкаливал. Начались корчи. Ругая экспериментатора на чем свет стоит, Евфросинья в домашних условиях вскрыла шов кухонным ножом и извлекла начавшую подтаивать «торпеду». (Антон видел ее, выброшенную в помойное ведро).
Утром не скопытившийся, а поросячьи порозовевший Борис хлобыстнул стакан спирта, принесенного Евфросиньей для протирки шприцевых иголок. Подмигивая Антону, Борис сказал: «Не переехал меня автобус». Он имел в виду, конечно же, «антабус».
Ничего подобного в батискафно погружавшемся на кесонные глубины подвале, куда крохотного Антона принес из роддома в охапке папа, произойти не могло. Какие автобусы-антабусы! Какие сожительства с постовыми! Или топчаны в ванной! Или разговоры о сваренном из людей мыле! Характернейшей особенностью Еропкинского подземелья оставалась степенная малоподвижность: утонульцы продолжали держаться – а не отпихиваться от галеры! – за тяжеленные письменные столы красного и грушевого дерева (первый – с ножками в виде толстых кегель, второй – маленький, с пюпитром) и обеденный дубовый (на шести с бубновыми утолщениями резных столбах, если возникала необходмимость его подвинуть, за дело принимались несколько человек); за ореховый буфет с арочно закругленными дверцами (таивший внутри в фарфоровых пиалках с крышками мягчайшую ягодную пастилу и нечерствеющие мятные пряники); постельное белье извлекали из пузатых комодов – дубового и орехового, присаживались на антилопьи изогутые грациозные венские стулья, задремывали в креслах с боченочными валиками-шинельными скатками.
Волнообразно нисходили широкие, как в ГУМе, мраморные с дымчатыми разводами ступени подъездого вестибюля к высоким квартирным дверям (но был еще и черный, а не только парадный ход!); буковые перила, похожие на анаконд – с точеными завитушками хвостов – позволяли поднявшемуся на пару пролетов Антону съехать по своим гладким теплым спинам…
В гомонящем, гудящем Неопалимовском лестница была вполовину (сравнительно с Еропкинской) обужена, перила – занозливо неструганы и шершавы (из таких досок мастерили на уроках труда скворечники) и лишь для вида намазаны коричневой, похожей на гуталин липкостью, зато имелся аттракцион, затмевавший дрессированных полированных змей: скользящая вверх-вниз капсула! Пронзая нутро шумливого коммунального бедлама и нанизывая пояса этажей, челнок, разогнавшись, мог, наверно, вылететь из вертикальной шахты, как из пушечного ствола (или с байконурского космодрома), и, преодолев земное тяготение, вонзиться в Луну или Марс! Перехватывало дыхание, если удавалось в течение нескольких минут безостановочно курсировать в этой готовой к старту ракете, улучив миг, пока спешащие на работу скворцы-дрозды-воробышки не начнут колотить клювами и лапками в металлическую клеть ограждения.
Первая ночь в необжитой комнате на четвертом этаже прошла бессонно. Антон ворочался и видел: по стенам и потолку скользят инопланетные блики. Световые квадратики, прямоугольнички, сатурновы круги – чуть более расплывчатые, чем в учебниках астрономии и геометрии, – водили кадриль, бледнели, нарождались, замедляли и ускоряли карусельное вращение... Праздничная кавалькада ночных солнечных зайчиков и радостное предощущение счастья запомнились навсегда. Многие годы удивляло: почему потолочные витражные виражи не повторяются? Догадка настигла позже: в ту первую ночь на окнах не было штор! Мама не успела погладить занавески. Стоило им появиться – тюлевым, кружевным, полупрозрачным, а поверх – светонепроницаемым гардинам, и вихревание изчезло. (В подвале круговерть не возникала, потому что мимоезжие фары упирались лучами в толстый ворс внутренних дерюг, экранно оквадративших окна-амбразуры – ради убережения утонульцев от внешних раздражающих факторов). А, может, для карусели инопланетных вторжений отведено скупо отмеренное время – оно истрачивается и не возвращается?
Бытие шагнуло в новое измерение. космонавствуя в тесной кабине (больше двух человек в лифте не умещалось), Антон сожалел, что вместе с ним не парят в невесомости дедушка Петр, бабушки и нагрянувшие в московский подвал из Ленинграда бородатый Распутин и гладко выбритый Победоносцев.
Привидения избегают толчеи, им вольготнее на безлюдье. Но, бывает, что и в заброшенных тронных залах, и на тихих кладбищах замогильному контингенту становится невмочь.
Константин Петрович Победоносцев отбыл из упокоившей его останки образцово опрятной петербургской усыпальницы, потому что (после сноса Свято-Владимирской церкви) оказался на юру, да еще возле круглосуточно функционирующей станции «скорой помощи»: вонючие бинты, костыли, белые халаты и красные (будто волчью стаю обложили флажками) кресты – вместо умиротворяющих надкупольных и надгробных, а на окололежащих набережных – мельтешня, суета и праздничные гуляния (посреди Рождественского поста!), разведение мостов (на радость зевакам), майские парады, возложение венков – блокадникам-дистрофикам, а недавнему члену Госсовета, сенатору и обер-прокурору – кукиш?
Дошкандыбав в товарняке до «Москвы-сортировочной» (ну и звучание – вопиюще антиэстетичное!), обнаружил, что и ласкавший слух Николаевским поименованием вокзал коряво зовется Ленинградским! Но главные потрясения ожидали впереди. Константин Петрович любил Первопрестольную, родился и вырос близ Поварской; в Петербурге обитал на Московском, навевавшем думы о Москве проспеке (отпевали почившего обер-прокурора – не у Исаакия, а опять-таки в Ново-Девичьем монастыре)… Поварская стала (невозможно вообразить!) – «Воровского»! Ладно бы в честь ворья, повара – всегда воры, но увековечен закоперщик революции и цареубийства! Ни в какие ворота (и в первую очередь – Никитские) не лезет! Большая Никитская, соответственно, преобразилась – гадость, стыд, позор! – в восхваляющую государственного изгоя и клеветника «Герцена»! В былые времена за одно лишь упоминание (в разговоре, вскользь) паршивого этого онемеченного (от слова «сердце») псевдониа заточали в тюрьму! Впрочем, нечему дивиться, повелось на Руси: тех, кто служит отечеству верой-правдой – презирать, а смутьянов превозносить и расхваливать. В вечном проигрыше тот, кто разделяет судьбы Родины. Отщепенцам же поклоняются. Подтверждение: улицы Разина и Рылеева, и – будь они прокляты! – опять-таки Ленинский и Ленинградские проспекты. По чудесной Никольской (где Славяно-греко-латинская академия) аж идти не хотелось – тянется к Кремлю «Двадцатипятилетием Октября»!
Выбравшись из метротоннеля (где саранчино или тифозно выбриты пролетарские плешки: «Кировская», «Дзержинская», «Карла Маркса»), Константин Петрович едва не грохнулся без чувств: возведенный на народные пожертвования кряж Христа Спасителя – зачем? почему? мало того, что станция сопряжена с анархистом Кропоткиным, не по-дворянски уголовно сбежавшим из Петропавловского равелина! – стесан и заменен дьявольски копытной слюнявой выбоиной! Напрасно просила сестрица Аленушка: «Не пей, Иванушка, из лужи!» – окозлился братец. Удастся ли расколдовать козлищ обратно в иванушек?
Хорошо, Зачатьевский монастырь нетронуто устоял – неоскопленный и неоскверненный, от него рукой подать до сундучково аккуратного, компактного особнячка меж Еропкинским и Мансуровским переулками, куда вселился и перевез семью регент Успенского собора Виссарион Былеев! Его потомки обрадовались Константину Петровичу.
Распутину тоже остобрыдло блуждать по Петербургу – возле собственной терзающе обезгробленной могилы в Александровском парке и по набережной, что напротив мерзкого Юсуповского дворца. Скучая по Анне Вырубовой, он доехал до Гельсингфорса, а там – всеобщее ликование: славят отпустившего чухонцев из тюрьмы-России шалашовника Ленина, удачно прятавшегося в финском Разливе. С Григорием Ефимовичем говорить никто не пожелал, отыскать Анну не удалось. Затосковавшего Распутина потянуло в задушевную Златоглавую, куда наезжал загульно или потолковать по душам с Виссарионом Петровичем. Прилетел-прибыл «Красной стрелой», постучался в подвал, где после смерти регента проживал его сын Петр, и был родственно привечен.
Константину Петровичу и Григорию Ефимовичу предоставили опочивальни со взбитыми перинами, выдали индивидуальные зубные щетки и водрузили на стол персональные обеденные приборы, хотя призраки проявили к еде полнейшее равнодушие – чем задели самолюбие созидательницы превкуснейших румяных кулебяк и флотилий лодочек-пирожков бабушку Аню. А какие суточные щи по ее мановнию томились в духовке, какую уху она варила, а зеленые щавелевые со сметаной и клюквенный и черничный кисели! Бабушку категорически не устраивало умаление ее кухонных заслуг. Потчуя Антона своими супами, пончиками, жарким, котлетами, она преломляла кулинарный талант педагогически: «Не бери пример с бестелесников! Вот, правильно, проглотил «двоищу»! «Троек» и «колов» быть не должно, не оставляй плохие отметки на дне тарелки, это не лапша, а единицы!».
Распутин с Победоносцевым на свой манер подтягивали не успевавшего по многим школьным дисциплинам Антона: приглашали закадычных знакомцев – разорванного бомбой московского губернатора Сергея Александровича, сошедшего с пьедестала Юрия Долгорукого (медный конь дожидался наездника в прихожей), избавившего москвитян от холеры градоначальника Петра Еропкина (в честь которого и поименован Еропкинский переулок), привлекли астронома с воткнутым в берет ястребиным пером и в вычурном ниспадающем плаще: появлению Мишеля Нострадамуса предшествовало долгое скрипучее раскачивание в сумеречный час тяжеленного обеденного стола.
«Неуды» в школьном дневнике Антона, благодаря нетривиальным воспитателям, сменились «пятерками», он стал докой в областях, о которых прежде представления не имел: «Царство Небесное», «Призраковедение», «Воскрешение мертвых», «Прозренчество»…
Михаил Васильевич Ломоносов приохотил мальчика к химии и убеждал: «Поступай в Университет, где учился твой дедущка Петр». Иван Федорович Крузенштерн натаскивал фортификационно, тригонометрически и рекогносцировочно, водил в Парк культуры и отдыха по Крымскому мосту и будил сообразительность: «Стеньке Разину отсекли голову и руку и выставили протухать прямо возле ворот нынешнего ЦПКиО. Если бы Емелька Пугачев владел геодезией и картографией, смикитил бы: до Москвы и Петербурга ему с его разлюли-люмпенским войском не дойти, и восстания бы не затеял!».
Тезка дедушки Петр Еропкин приглашал Антона в многооконный особняк на Остоженке (напротив раскинулась усадьба Ивана Сергеевича Тургенева): «Изучай иностранные языки в стенах, впитавших голоса писателя Ивана Гончарова и философа Сергея Соловьева!». Иван Тургенев (во дворике, где немой Герасим подружился с собачкой Муму) обещал: «Сопровожу в Литинститут, там обретаются Осип Мандельштам и Андрей Платонов. Платонов подметает институтский двор, чистота – удел требовательных к себе прозаиков, сгинувщий за колючей проволокой Мандельштам (такова планида настоящих поэтов) уже не дуется на меня за то, что я сочинил рассказ «Жид» – о еврее-спекулянте».
Григорий Распутин оюмористичивал общеобразовательную канву: «Французы за обе щеки уплетали царевен-лягушек, вот и раскороновали себя до ничегонезначимости!», «На острове Млет все млеют и жарят омлеты», «В Кельне живут кельнеры», «На Итаке повторяют: «Итак», на Игарке гаркают, а в Тампере рисуют темперой», «Джек Лондон в Лондоне не бывал», «В обозначении «Кинешма» слышится: «Не кидай меня, мамаша!», «Не одна, не две и не три старые карги должны были поселиться в Каргополе, чтобы город получил свое название. Впрочем, возможно, в подтексте английское «карго» – груз…».
Случалось, к истребованным из далекого прошлого лекторам присоединялись два погибших жениха бабушек Лены и Оли – молодые, с трагически просветленными лицами, на отутюженных кителях пропеллерно мельничнокрылатели георгиевские кресты. Офицеры музицировали, пели романсы, фехтовали висевшими в комнате бабушек поверх ковра шпагами. Теням и волосок-то, или пушинку сдвинуть с места трудно – не хватает физической, физкультурной силы, но наипреданнейшие бабушкам оруженосцы управлялись с мушкетерскими причиндалами играючи.
«Знаешь, почему? – спрашивали они Антона. И объясняли: – Потому что влюбленность дарит неувядаемость».
Быть влюбленным в бабушек? Этого Антону постичь не удавалось. Повзрослев, он частенько задумывался о неудавшейся судьбе добрейших (и – как следствие?) разнесчастнейших старушек. Судя по сохранившимся хрупким фотографиям, пожелтевшим от времени письмам и воспоминаниям дедушки, в молодости Ольга и Елена были неистощимыми хохотушками. Малейший повод (свою ли прехорошенькую внешность: вздернутые носики и стреляющие глазки, неловкость ли склонных к завирательству или напыщенности знакомых, чрезмерную ли поглощеннсть папы и мамы домашними хлопотами) обращали в розыгрыш и шарады. С такой подливой даже самые горькие пилюли проглатываются легче. Но Жизнь, сама величайшая пересмешница и монополистка на поприще балаганств, не терпит соперничества и изыскивает способ пригнобить всякого, кто пытается ей подражать. Не откажется ради придавливания шутников даже от союзничества с накладывающей печать молчания на уста Смертью. Отняла у передразнивательниц цветущие годы, женихов, вколошматила в сырой подвал, насылала хвори… Не унывающие старушки – одряхлев и недомогая – потешались над продолжавшимися невзгодами.
Георгиевские кавалеры позволяли мальчику примерить фуражки с кокардами, учили брать под козырек, знакомили с правилами проведения дуэлей и сожалели: индивидуальное отстаивание чести уступило место массовым невразумительным потасовкам. Повествовали о том, как погибли, защищая от паливших из гостиницы «Метрополь» по Иверской часовне вандалов: свинцово жалящие осы, пущенные в полет рабочими дружинами, щербатили Сенатскую, Кутафью и Арсенальную башни, решетили надвратные иконы, вшлепывались в тела юнкеров. Учебник истории, который Антон штудировал в школе, о таком умалчивал. Может, георгиевские пропеллеристы перепутали? Неужели строители баррикад (восставшие ради всеобщей справедливости!) посмели бы, увидев нежнейшие мозаичные панно на стенах «Метрополя» и подпав под волшебное воздействие искусства, курочить бесценное кремлевское достояние?
О войне убиенцы (оба – до перестрелок в центре Москвы – успели принять участие в атаках на Западном фронте) тоже отзывались не героически: «Бессовестные правители пользуется тем, что несмышленая молодость не дорожит жизнью, вот и шлют чужих сыновей и дочерей на смерть, а своих берегут».
«Разве есть участь более прекрасная и возвышенная, чем смерть за отечество? – спрашивал Антон павших рыцарей.
Они, изложив основы уставных и внесубординационных положений армейского и гражданского кодексов, вешали рапиры на шерстяную промокашку ковра, поглощавшую холодную запотелость стен, и сухо (глядя на сухие, как засушенные листья, воротнички и сухие, как испарившиеся озерца, глаза, хотелось сказать: «хрустко») откланивались – до следующего нескорого свидания. Бабушки Лена и Оля провожали гостей до порога и потом тихонько грустили в уголку.
Загробные семинары и сопряженные с ними беспорядки (однажды соударенные фехтовальщиками шпаги взаимооттолкнулись и поцарапали Антону щеку, а заговоренная Распутиным столешница, подгоняемая его шаманскими завываниями, взмыла столь высоко, что разбила стеклянную бахрому висевшей под потолком люстры) толкали подвергшуюся кулинарной дискриминации бабушку Аню на кардинальное противостояние преисподним неупокойцам: «Спрячу сабли в сундук, а вас заставлю ночевать на этом сундуке! И раздобывать новые плафоны!». Она не то, чтобы притесняла или ущемляла права праздношатающихся спиритов, но не могла смириться, что они распоряжаются в доме на равных с ней и не упускала случая напомнить, кто вещественнее, а потому приоритетнее: бросала на закрепленный за Распутиным стул тряпку или прихватку, на кресло Победоносцева – кофту или дедушкину газету, невзначай устраивала проветривание, зная: сквозняк способен выветрить бесприютцев; они и впрямь цеплялись за дверные ручки, скатерти, вилки и любые обладающие нецентрифужными свойствами предметы, лишь бы не быть унесенными невесть куда. Но, конечно, она не смела превратить стоявший в коридоре покрытый тюфяком символ долготерпения – в захламленный рапирным спортинвентарем ящик. Осквернить скалу, к которой на многие десятилетия самоотверженно приковала себя прометеева семья? Антону строжайше запрещалось рассказывать школьным и дворовым приятелям о содержимом короба. Педантичный Победоносцев требовал переместить сберегаемую в сундуке неприкосновенность на стену: «Не дело срисованному с натуры лику томиться под спудом!». Разудальничавший Распутин навевал ярой гонительнице дурные сны и плохое настроение, бабушка боролась с хандрой вязанием на спицах, вышиванием на пяльцах, декламацией ею самой сочиняемых бодрого ритма стихов.
Распутину бабушка не могла простить, что выступал (в бытность плотским и всегораздым) против женитьбы дедушки на соотечественнице-москвичке (кандидатшей в невесты была сама бабушка), а настаивал на вступлении в брак с итальянкой. За низкопоклонство перед династиями Габсбургов и Гогенцоллернов (хоть последние и одарили мир ярким живописцем Гогеном – укоротившим свою фамилию в авторской подписи на холсте до пяти букв) от бабушки Ани доставалось не только опрозрачневшему выкрутаснику Григорию Ефимовичу, но и вполне осязаемому дедушке: «Поезжай в Лигурию, пусть измогильцы шлендрают к тебе по морям и ложатся почивать не на перине, а в погребе, средь окороков!»
Константин Петрович дулся на бабушку втихомолку, а Григорий Ефимович взбрыкивал, убегал на второй этаж, к бывшему коллежскому ассессору Полугаевскому, тот был вдавлен своей же недавней прислугой в шестиметровый закуток (где прежде хранились пронафталиненные шубы): дворник и его любовница-посудомойка верховодили в захваченных ассессорской спальне и кабинете, в столовой расположился отец посудомойки – одноглазый чекист. Появление Распутина реквизиторы встретили в штыки, а, точнее, в револьверы, чекист и дворник стал палить по призраку, расценив его явление как посягательство на присвоенную ими собственность. Пуленевосприимчивый Григорий Ефимович тем не менее ретировался. Возобновив антибабушкинское выбрыки, он заявил: «Некуда деться, всюду Ипатьевские подвалы!». И, мстя, стал залучать – не только на кухню к бабушке, но и в хоромы Полугаевского – прижизненного своего секретаря Арона Симановича, подзуживая его (так, чтоб чекист, дворник и посудомойка слышали) украсть вазочку, пистолет, метлу, приволакивал Малюту Скуратова и приказывал читать поэму Данте о чистилище, тащил за ухо рыдающего князя Юсупова и настаивал: «Сознайся, змееныш, где зарыл клад!».,
После этих представлений воцарившаяся (то есть обесцарившаяся) в доме и стране власть (в лице уважающих себя совслужащих и прикормленных пролетариев) не отваживалась спускаться в преисподний цоколь и не зарилась на знобкие сырые катакомбы!
Объединяясь накоротке против бабушки Ани, извлеченцы с того света меж собой не ладили.
«Не слушай интернационалиста Распутина! Будь – русским! Пришлые нации наносят России вред! – вколачивал в неокрепший разум Антона занудный обер-прокурор. И просил вызубрить скороговорку: Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, Роза Люксембург, однофамилица целого государства, украла у Фридриха Энгельса кларнет. Все вчетвером оттяпали у твоего прадеда Виссариона Былеева – мало того, что уважаемое положение в обществе, так еще и жизнь!».
Распутин бухтел (будто не к Победоносцеву адресуясь):
«Нет худа, если к русской примешается польская или немецкая, японская или турецкая кровь. Да и еврейская. Я своего секретаря Симановича высоко ценю»…
«Он твой банкир! А ты – его марионетка. «Протоколы сионских мудрецов» – не фальшивка: сбылось все, что в них предсказано! – гундел Победоносцев. – Евреи захватили власть над миром, а над Россией – подавно!».
Григорий Ефимович отмахивался:
«Что написано, то сбывается, произнесенное – исполняется, твоему альтер эго (а лучше бы альтернативцу!) Нилусу нужно было семь раз отмерить, прежде чем излагать на бумаге дурацкие измышления. Они материализовались!».
Победоносцев цедил постно-гриппозно:
«Ты в советские времена принял облик всесоюзного старосты Михаила Калинина, имитировал внешность Троцкого и заключил от его имени позорный Брестский мир!»
«Народная! Крестьянская! Простецкая, близкая мне своими крайностями власть! Ей я верой-правдой служил. А она то хватает Бога за бороду и стаскивает с небес, то падает перед ним ниц. Ты, обер-прокурорская душонка, всегда осторожничал. Ты осторожен, я – острожен! Ты в орденах, я в веригах! – Распутин звонко ударял себя по колену, готовый пуститься в пляс или биться об заклад. – Не жалею, что отдал многие годы работе в советском правительстве».
«Не вижу построенного города Солнца!», – поджимал бескровные губы Победоносцев.
«Увидишь! Как за уши тебя воздену!» – Распутин тянулся к гипертрофированно отвисшим ушам Победоносцева, но обер-прокурор надменно отстранялся – он не перенносил распутинских вольностей.
В дни, когда дедушка отправлялся на Ваганьково (и говорил: надо привести в божеский вид могилки), недружные приживалы заключали перемирие, держались искательно и приниженно. Распутин выл: «Хочу на погост!». Победоносцев ныл: «Провези через Поварскую – это по пути!».
Дедушка, стараясь не их обидеть, уклонялся: «Как воспримут граждане компанию нежити – в трамвае или такси?».
Духи не признавали условностей: «А вечером? Под покровом темноты»?
«Вечером кладбища закрыты», – не оставлял пространства для надоеданий дедушка.
Антон задумывался: почему не все умершие превращаются в ангелов? Распутин и Победоносцев, окрылатев, смогли бы – без посредства такси и дедушки – летать, куда вздумается. По каким градациям происходит деление на порхающих и гравитационников?
Очутившись на небе в поисках мамы, узнал: проекции вниз и вверх, подземные и надземные продолжения имеют не только люди (наглядное подтверждение – изображенный Леонардо да Винчи витрувианский человек), но и дома. В лучистом георгио-победоносно-пропеллерном ореоле предстали взошедшие на облачных подушках симметрично непохожие Неопалимовская и Еропкинская половины целого. Антон устремился к ним и по щиколотку увяз, провалился в разъехавшуюся прореху.
На тротуарную твердь – из мягкой западни – выволок невесть откуда взявшийся коротышка.
– Зовите меня, если случается непредвиденное. Имя мое: Явился-не-Запылился, – представился он. И изготовился щелкнуть каблуками. Но ботинки на толстой подошве лишь шаркнули о предгрозового оттенка серую мостовую. – Сам себя клеймлю нещаднее. Негодяй, вот кто я! – Перекинув слева направо прядь пегих, зализанных на лысину волос, малорослый выручатель шмыгнул носом и поддернул сползшие брюки. – Исполняю обязанности адвоката. На бескорыстных началах. К вам прикомандирован, чтоб не наделали ошибок. Ловушек-провалов здесь полно. Вспоминайте – и о самом лучшем, что было, этим поможете себе воспарить, и о самом нарывающем, флюсово вздувающемся: кому и когда солгали, не кинули грошик в протянутую кепку или ладонь, кого не без самолюбивого умысла принизили… Без изживания дряни не избавиться от тянущей вниз тяжести. Каждая провинность чревата падением. Вопрос надо ставить вот в каком аспекте: чего сами не можете себе простить? Вы сейчас чуть не сверзились из-за того, что напугали призраков, катая их в лифте.
Антон вперился в самозванного юриста. Откуда тот выведал? Что, зазвав Распутина и Победоносцева к многодетной Наде, сперва довел ретро-отставников до невменяемости курсированием в капсуле-кабине, а довершил экзекуцию включением черно-белого телевизора: линза увеличивала подмигивающих дикторов, торчала рогатая антенна, строили рожи малолетние Надины крикуны...
Незнакомец не умолкал:
– Получив предписание: освободить подвал, бабушки и дедушка разволновались. Бабу Олю увезли в больницу. Оттуда она высвободилась уже бесплотной. Распутин и Победоносцев отправились через Москву-Ваганьковскую в Париж-Перлашезный, французская столица им не понравилось.
Возможно, в связи с упоминанием Парижа, из нагромождения высоченных и низеньких строений выдвинулась (опять на плавающем облаке) Эйфелева башня. Зевнул водяной пастью римский фонтан Треви. Разнокалиберные жилища (бубновооконная тумба Мельникова, африканский прошитый пулями вигвам, деревянный пятистенок, перенесшийся из Тобольска), подбоченясь и навытяжку, выгибая фасады, обступили Антона и его собеседника.
– Ловко вы намастырились прогуливать школу! – шмыгальщик опять поддернул штаны. – А ведь прогуливать не положено!
Антон улыбнулся. Приятно было вспомнить…
Папа («как на работу ходил» – шутила мама) раз в неделю навещал жену и сына. Оформив «цивилизованный» (формулировка Евдошечки) развод, родители остались в сносных (то есть схожих с участью многих недоразрушенных арбатских особнячков) отношениях. Случалось (обычно это происходило погожей осенью), мама карябала записку учителям: «Сын не мог присутстовать на занятиях в связи…». Мама суеверно долго подыскивала причину неявки, которая, с одной стороны, звучала бы убедительно, а, с другой, не спровоцировала заболевание, поэтому мотивировки «в связи с подскочившей температурой» или «зубной болью» отвергались, предпочтение отдавалось расплывчато нейтральной: «приездом родственников». Так и было: приезжал близкий родственник – папа, семья ненадолго склеивалась. Напялив тренировочные костюмы и куртки, взяв корзины, мама, папа и Антон садились в полупустую будничную (а не переполненную воскресную) электричку, везли бутерброды и сладкий чай в термосе, выходили на станции «Катуар» (никто не умел выявить этимологию названия, возможно, поэтому его вскоре заменили доходчивым – «Лесной городок»), шли скошенным щетинистым полем наискосок, мимо крохотного болотца (куда однажды кто-то выволок раздувшийся смердящий труп лошади), пересекали просеку с великаньими высоковольтными вышками и напряженно гудящими проводами, сразу после этих охранявших вход в природу металлических гигантов начиналось царство троп и оврагов, боровиков и маслят, пыхтящих ежей и радужных стрекоз, стрекочущих сорок и лосиного помета. Отдыхали в березовой роще, черно-белый упавший ствол служил скамейкой, пили чай… Из леса выходили возле деревни Салманово, шли с тяжелыми, полными грибов корзинами на станцию.
Приплясывавший перед Антоном (как кораблик на волнах) болтун потер веки тыльной стороной ладони. Промокнул влажные бороздки на лице извлеченным из кармана клетчатым носовым платком и принялся разглядывать ботинки. Антон тоже уставился на обувь говоруна и отметил: отсутствуют шнурки. Не было и брючного ремня, продетого в штрипочки.
– Пытался кончить с собой. Вот и отобрали, – доложил субъект. – У меня ошибок – не счесть! Не купил ей даже пишущую машинку! Ничтожество, вот кто я! – дополнительно припечатал себя странный тип. – Но пытаюсь нейтрализовать ошибки. По возможности надо изживать грехи прижизненно. А это не всегда получается. Что ж, отдуваюсь здесь. Защищаю тех, кому хуже, чем мне. Парадокс: я с вами мило экивокствую, а меня засудят, если не явлюсь на разбирательство. Впаяют приговор! И Ганну засудят. Если не докажу судьям: не она обчистила Евдошечку. Я сейчас об инциденте с пропажей мундштука и коробочке с кольцами.
Антон во все глаза изучал тараторившего знайку.
– Когда у Евдошечки пропали любимый мундштук и коробочка с обручальными кольцами, Борис клялся, что ничего не брал. Евдошечка легко отнеслась к потере: «С чем в колыбельку, с тем в могилку. Личного не может сохраниться в стране победившего Минотавра. Комнаты, тараканы, драгоценности, мужья и жены – все общее!». Но мундштук – ведь не просто мундштук, а память о папе-генерале. Кольца – память о Мойше Хейфеце. Память – единствннное, чем располагают переселившиеся сюда. Память – самая твердая валюта. Вам столько предстоит узнать… Не верьте, если станут утверждать: квартира в Неопалимовском соединена с тартаром! Нет раздельно существующих рая и ада. Но подвал в Еропкинском и точно – тянется ввысь...
Подозрительный затуманиватель мозгов счетвертинил и спрятал в карман носовой платок. (Антону понравилось, что не скомкал.) Учтиво поклонившись, то есть скособочив поясницу, неопределенно махнул рукой, как подбитым крылом, и поспешил прочь по присыпанной измельченным ракушечником дорожке, уклоняясь влево и забирая вправо, комически подпрыгивая на пружинящих толстых, видимо, призванных восполнить нехватку роста, подошвах. Некоторое время до Антона доносилось бормотание: «Я – негодяй. Негодяй!».
Проводив самобичевателя взглядом, Антон осторожно, словно заново учился ходить (и страхуясь от очередной засасывающей воронки-уловителя), двинулся к Неопалимовскому и Еропкинскому ориентирам. Испуг, охвативший при соскальзывании (пробном? обучающем?) в капакан-дыру, мало-помалу изглаживался. Восхищение прочностью небесных покрытий уступало место сомнению в их надежности. Гадая: гирлянды воздушных шариков – успеют ли подхватывать падающего, Антон сожалел, что не вызнал у словоизвергателя: специально или по недосмотру и нерадивости не обнесены оградой, не помечены предупредительными знаками участки, где идут ремонтные работы?
СВАСТИКА ИМПЕРАТРИЦЫ
Ветерок, проникая в оконные пазы, пошевеливал велюровые, с оборочками, кремового цвета драпировки. Близились изумрудно-синий прибой, влажный бриз, разляпистые пальмы и ощущение неуклонно улучшающегося, благодаря снотворному запаху выброшенных на берег йодистых водорослей, здоровья, но до взаправдашней прохлады кучерявых волн и зеленых прялочно стройных кипарисов было далеко. Шелест рессор, вагонная мерлушково-шубная духота и костаньетный перестук колес навевали манну ударяющихся одна о другую пуговиц и расстегиваемых перед купанием одежд. Регент отшвырнул плед.
Поглощенный поисками согласия с собой, Виссарион Былеев не сразу услышал робкое поскребывание в дверь.
– Милости прошу, – позвал он.
В приотворившуюся щель неловко, бочком, протиснулся Владимир Борисович Фредерикс: горделиво запрокинутая маленькая головка с нафабренным хохолком делала его похожим на забияку-петушка (заметно пощипанного и потрепанного беспощадным врменем), мундир с аксельбантами сообщал худощавой фигуре морщинистый объем, пышные седые усы и бакенбарды скрадывали мелкость высохших черт. Граф, в молодые годы завоевавший кличку «Щипцы для орехов», теперь мало походил на зубастого Щелкунчика из сказки Гофмана: тяжелая челюсть шепелявила, холодная вышколенность и готовность ввязаться в грызню (с кем бы то ни было и без долгих рассуждений) сменилась старческой немощью. Много лет Фредерикс занимал должность министра Императорского двора и имел типичный для большинства придворных выдвиженцев послужной список: начав карьеру в звании шталмейстера, управлял конюшенной частью, являлся апологетом строгой военной дисциплины и казарменного порядка, за что был перемещен в помощники министра, затем, успешно лавируя меж придирчиво-капризной вельможной знатью и нуждавшейся в постоянном отеческом водительстве императрицей (она обрела в дребезжащем жилистом кукареке трогательно заботливого папочку), еще более возвысился.
Долгие часы граф тратил на одевание, причесывание и напомаживание, случалось, являлся во дворец в середине дня, когда протокол деловых встреч государя, соблюдением коего ведал министр двора, оказывался исчерпан. Преклонный возраст давал о себе знать не только покатостью узких плеч и общей поникшестью, все чаще старичка настигали приступы забывчивости, мешавшие скрупулезно исполнять круг вмененных обязанностей: церемонемейстер путался в расписании аудиенций, не мог вспомнить имен и званий посетителей. Государь любимчика не журил: власть, пекущаяся об упрочении вчерашнести, ценит руины выше целехоньких кирпичей. Благорасположенность Николая Александровича и Александры Федоровны обеспечили ревностному служаке – примеру слепого повиновния долгу – статус незыблемой первейшести средь петербургского истеблишмента.
Из принесенного бархатного мешочка Фредерикс извлек тяжелую, розового дерева, инкрустированную слоновой костью и перламутром клетчатую доску и взгромоздил на выдвижной столик.
– Составите компанию, досточтимый Виссарион Петрович? – Истонченные пальчики не охватывали стиснутые в крохотных кулачках черную и белую пешки, цвет виднелся. Виссарион Петрович указал на руку, что таила черную масть. Фредерикс по-детски обрадовался: – Хожу первым!
– Многообещающее начало, Владимир Борисович, – поздравил его регент.
Не успели конница, пехота, ладейно-лафетные обозы ввязаться в сшибку («Смешались в кучу кони, люди», – мысленно воспроизвел стихотворную строку регент), Фредерикс зевнул выточенного из реликтового самшита слона и проворонил шах. Пошутил, обороняясь словесно, а не шахматно:
– Кому шах, а кому – падишах! – И, пока произносил поверхностную эту остроту, не доглядел за ферзем. Взмолился: – Позвольте взять ход назад?
Виссарион Петрович сжалился – и над рассеянным партнером, и над его выстроенными по приципу карточного домика (дунь – рассыплются) боевыми заграждениями. Отстранясь от пигмейского аустерлица, регент вновь уходил в себя, погружался в тяжкие думы. Неужто произойдет то, что предсказывает Распутин: вычурный петербургский особнячок Фредерикса разграбят и сожгут, захворавшую, прикованную к постели Ядвигу Алоизовну и дочерей вышвырнут на улицу? Зятю Фредерикса – генералу Владимиру Воейкову (находящемуся в одном из соседних купе) – придется, притворясь умалишенным, скрываться от преследований в психиатрической лечебнице...
Клубящиеся пророчества заслонили схематично-блошиное прыгание шахматных головастиков, колесо Фортуны (схожее с рулеточным?), заскрежетав, встало на ребро и покатилось, подминая, плюща, мозжа баловней и баловниц ненадежно благосклонной Судьбы, превратилось в мельнично-перемалывающее орудие колесования – с хрустом выворачивало суставы, чавкая, отсекало наманикюренные пальчики, мясорубило в кровавый фарш брюшину. На эшафоты взойдут не только сподвижники царя, но и подружки императрицы – уж не окликнет их Александра Федоровна, как прежде, беззаботно: «Юла!», «Букля!», «Коровушка!»…
В подковыристой наблюдательности, не искажающей, а препарирующей реальность, государыне не откажешь: бирка «юлы» прилепилась к статуэточно стройной Юлии Ден не только из-за крутящегося волчком имени, а и потому, что надменная красавица очевидно юлит в дворцовых шашнях; прелестница Иза Буксгевден безостановочно меняет завитые парики; Анна Вырубова – полновата, медлительна, волоока, а, бороздя вместе с венценосной семьей на яхте «Штандарт» финские фиорды, лелеяла не столько царских детишек, сколько доставленную на борт, дабы часто хворающее династическое потомство постоянно имело в рационе свежее молоко, буренку, кормила ее пирожными и конфетами… Обречены погибнуть графиня Анастасия Гендрикова и Константин Нилов – флаг-капитан при императоре и капитан той самой яхты «Штандарт», на палубе которой паслась, поедая сладости, жвачная дойная рогуля... Беды настигнут фрейлин Высочайшего Двора Маргариту Хитрово («Хитрюшку») и юную Евгению Казимировну Ивановскую («Евдошечку»)…
Среди жертв грядущего вихря Распутин видел свою жену Прасковью Федоровну и дочерей Марфу и Варвару: одна будет сослана – в казахстанские степи, вторая станет циркачкой в Америке. «Коль не подчинятся моей воле, так и произойдет. А исполнят повеление – сумеют уберечься, – надеется Распутин. – Марфа-Матрена-Матрона и вовсе может сделаться святой».
Дамоклов меч навис над четырьмя очаровательными девочками и слабеньким, постоянно недомогающим мальчиком: государь и его гордячка-жена катают детишек в автомобилях марки «дион-бутон», кукольно наряжают, учат наездничать на выдрессированных, не могущих взбрыкнуть лошадях, но змеистая смерть, выползшая из омытого дождями черепа и ужалившая вещего Олега, кроется не в лошадином, а в человечьем обличье.
Ради обретения царской четой долгожданного наследника призван был из Франции хиромант и теолог-планетоуправитель мсье Филипп. Бесноватые зерцала души (коричневого она у него, выходит, цвета) обладателя длинных черных косм и белых крахмальных манжет и манишек цепко взирали из-под выкрашенных в зеленый болотной цвет тинистых тенистых бровей. Пальцы рук поражали бескостной гуттаперчевостью, их мсье Филипп беспрестанно заламывал и скрещивал (и сам искручивался) на допросе у Константина Петровича Победоносцева.
Увы, позднехонько поступило из российской дипмиссии в Париже донесение: заезжий волхв – не космист и не распутыватель ладонных предначертаний, а рассекатель свиных и говяжьих туш, торговец требухой в дрянной лавчонке; сопровождая груз баранины для пира Гогенцоллернов, сумел убедить прожорливо-ротозеистых пруссаков, что подсобит их короне обзавестись алмазом-отпрыском, достойным воинственного нибелунгжьего клана. В замке Монбижу, по распоряжению вруна-колдуна, трое суток варганили мухоморно-бледнопоганочное хлебово, оно предопределило вздорный нрав выползшего из материнского чрева с онемелой волочащейся ножкой, сухой ручонкой и бородой клинышком дитяти – будущего кайзера Вильгельма!
Порчу, увечья и звериную волосатость насылал на соперничающих с Версалем выродков оборотень-мясник!
К царице в Зимний был срочно вызван личный акушер Дмитрий Оскарович Отт (при посредстве коего благополучно явились миру четыре очаровательные предыдущие дочки), но обруч проклятости уже сомкнулся над недозрелым, недовыношенным плодом – обволосненным кокосом: прободав скорлупу, выпростались наружу два теленочьих рога и ножка в красном сафьяновом сапожке. Крохотная шестерня (а не пятерня) извивавшихся по мсье-филипповски пальчиков грубо смазала Дмитрия Оскаровича по щеке, половина лица медика исцарапанно посинела. Две ножки и одна ручонка младенца оказались шестипалы, «6,6,6» – сосчитал Распутин, а четвертая конечность – копытна, страшилище поспешно сокрыли в стенах, окутанных пятью слоями персидских ковров: ни всхлипы матери, ни мычание быкоподобного уродца не достигали неотлучно охранявших двери гвардейцев и казаков.
Уезжая из Царского Села, мсье Филипп куражился: «Не пасхальное яичко положил я в ваше гнездовье!». Дмитрий Отт красил щеку то свеклой, то зеленкой. Распутин обмотал рожки и лишние пальчики новорожденного марлей, пропитав ее отваром лютиков, но наросты во лбу лишь зашелушились, а щестые персты превратились в когти.
Ни в газеты, ни на рынки, ни по дешевым пивным новость странствовать не пустилась, хоть отдельные языкочесальщики и пытались раздуть ажиотаж: де на вахту караульные заступают принудительно и за большие деньги – не молочных кормилиц, а освежеванных кошек и собак поставляет питомцу-живоглоту лично царь. Но на фоне других неподвластных разумению несообразностей (привычных для необъятой непознаваемой страны) ни синюшная щека врача, ни надбровные (не желавшие отвалиться) роговые утолщения – да мало ли у кого какие атавизмы! – внимания не привлекли и население не всколыхнули. Не до шаловливых шестых перстов выродка (хоть бы и венценосного), коль у писателя Гоголя отчекрыжили в гробу полный мертвых бессмертных душ кумпол, а близ Шпицбергена преогромный морж бивнем неслыханных размеров – не сравнить с недоразвитыми рожками, пропорол днище шхуны, снаряженной Академией наук, и нанизал на клык матросов, под этим трупным знаменем корабль плыл к Аляске и пытался вернуть ее в юрисдикцию Росии; по весне рыбаки Переславля-Залесского изловили в Плещеевом озере крокодилье чудо-юдо, привезли в Петербург, а оно сбежало, очевидцы застигли факт аллигаторского плюханья в Обводной канал! В Тунгусской глуши, повалив гектары леса, рухнул с неба опломбированный овин (с прикрепленной биркой: «Принадлежность Копилки Господа»), из него расползлись по Руси кунст-камерные трехголовые медведи – расселись вдоль Вислы, сей с натуры срисованной аномалией дворянин Витольд Потоцкий вознамерился обогатить свой фамильный герб, но геральдическая палата уперлась: эдак до десятиглавых гидр докатимся, и Потоцкий – в пику гештальдистам – поместил на штандарт вызывающе обедненного, дразняще-обкраденного раздвоенностью одноголового орла!
Торопясь отграничить недоноска – от не шишкинских (то есть неканонических) медведей и переславских рептилий – и равняя дитя (по праву высокородности) с пятипало-двуного-одноголовыми, почитавшими себя верхом совершенства завсегдатаями дворцовых сборищ, государыня (под сурдинку, а то и с помпой усуматошивая без того двойственно-двуличный аристократический этикет) пустилась раздавать эталонно непревзойденным красавицам и красавцам – птичье-зверюшечно-мебельные прозвища: начальник охраны Спиридович по ее прихоти стал Шкафом (он и прямь был громоздок), арап Джимми (в связи с матовостью кожи) – Грачом, камердинеров государя Николая Филипповича Шалберова и тезку царя Николая Александровича Радцига означила «Шваброй» и «Тюленем», а молчаливых Шевича и Труппа – «Вшивым» и «Упокойником». Святитель Феофан Полтавский (духовник царской семьи) обрел титул: «Малоросс». Премьер-министр Горемыкин – (естественно) Горемыки. Подверглось переплавке в горниле болезненной фантазии воинское тавро не решившегося принять в Таврическом дворце маршальский жезл монарха: жена прилюдно величала мужа «Полковником», а в домашнем обиходе «Теленочком» – преопаснейший отсыл к Коровушке Вырубовой и в клуб, куда был зачислен, когда в кучерявости проклюнулись ветвистые острия, поэт Пушкин. Распутин углядел в неуместно ласкательном обращении отблеск жертвенного капища, где тельцам отведена известно какая роль.
Вакханалия переименований утишила циркулирование слухов о кошко- и воронопоедающем выкидыше-тельце (его иногда означивали – производно от «царя-теленочка» – еще и гороскопно), но довереннейший приятель государя граф Владимир Николаевич Орлов (удостоенный за болтливость клички Какаду!), с отвагой, присущей большинству приматов (поделом бы ему зваться Бабуином!), растрезвонил: «Минотавренок – мое упущение, царь к недоразумению с мсье Филиппом касательства не имеет!». Попугай-повторяльщик подразумевал: он, друг помазанника, проморгал проходимца-француза, коего не должно было подпускать к монаршему семейству, но заявление воспринималось егозливо.
Удрученный царь все чаще отлучался в бизонью Беловежскую пущу и оленью Спалу, а в дворцовых парках, как семечки, щелкал синиц, воробьев, ежей, ужей и полевок, часто под пули попадали статуи на аллеях. Особую нелюбовь стрелка стяжала скульптура пророка Моисея на петергофской пристани: «Этот рогатый – исток моих бед!». Тщетно Победоносцев увещевал: не мог быть собеседник Бога (объявший человечество десятью антидьявольскими запретами!) рогат, рожки спускавшемуся с горы Синай приносителю заповедей «приделал» переводчик Ветхого Завета на латынь с иврита (где «сияние» имеет еще и «рогатое» прочтение) Блаженный Иероним, ошибочно – или в силу отрицательного отношения к иудеям? к непозволительности воровать и прелюбодействовать? – наделив мессию не «лучами», а чертоподобием. Микеланджело и прочие мастера резца лишь слепо и недумающе копировали искажение...
Царица в безысходном грохоте пальбы (по беззащитным птахам и безвинным изваяниям) самонареклась Ухающей Совой (воплощенная мудрость, увы, не способна заслонить от пуль ни живность, ни мрамор), а затем – не отстаивая ли еще и снесенное до срока кокосовое яйцо? – Мокрой Курицей, то и другое, с точки зрения ее хулителей, было неприемлемо: хищноносая (во мраке умственного затмения) и беспомощная при свете дня, она близоруко (не умея отличить хищников от гусынь и индюков) щурилась на окружавшие трон стада и стаи, а в посланиях к мужу (если он уезжал, скверное настроение не покидало ее) простодушно кокетничала: «Твоя Наседка». Мало ей было заушательств по поводу прически, которую ежеутренне в виде вавилонского куриного гребня и совиных торчащих ушей сооружали служанки на хорошенькой головке (так взбивают яичный желток для «гоголь-моголя» и яичный белок для приготовления печений «меренги») – или жеманным самобичеванием надеялась умилостивить планиду? Жалость к ней, заклевываемой на сверхвысокой жерди, переполняла регента. В провинциальной европейской глуши, где взрастала и взрослела, ее называли (сообразуясь с золотистым оттенком вьющихся прядей): «наше солнышко» – есть разница между «солнышком» и «хохлаткой»?!
Редкие пытливцы способны узреть в бессвязных несуразицах – чепуховистых и милых (до поры, пока не роняют престиж первой дамы) – начало маниакальной нелюдимости. Печать помутнения уверенно ложилась на чело лепестково-белой эдельвейс-императрицы, уведомления, донесения, реляции – исходившие из монаршей канцелярии (вотчины Николая Александровича, куда жена вторгалась все чаще и навязчивее) – обильно уснащались (наряду с официально затверженными обращениями) усугублявшими перекос вывертами: «Многоуважаемый судак!» (вместо «сударь»), «Генералу-от-инфузории» (а не «инфантерии»), иные депеши вовсе не удавалось расшифровать: «Сим свидетельствую, что усилия Кенгуру направлены не в ту степь…». Однако Распутин одобрял обзывательское поветрие: «Пусть поелику возможно каждый нацепит псевдоним: не Владимир, а Илья, вместо Неонилы – Нина, именины (име-нины) перекочуют на другие даты, сменятся ангелы-хранители, под удар попадет тот, кого нетути. Я – вчера Новых, сегодня – Распутин, смерть рыщет-ищет Распутина, а я – Новых!».
Виссариону Петровичу дал наказ: «Не торчи громоотводом! Иначе снесет твою седую башку. Сделайся Сахарной головой. Или Скрипичным ключом!». Виссарион Петрович настояние отверг: «Да, седею, расту с годами вниз. Сгибаюсь скрипичным знаком. Но кары небесной не избежать. Себя сбиваем с толку, а Бога не проведешь!».
Григорий Ефимович кипятился: «Мне написано на роду быть застреленным и утопленным. Тебе – застреленным и распятым. Отсрочь развязку – тебе много чего необходимо успеть!».
Регент запугиваниям не поддавался и здравость не утрачивал: «Зачем застреленного топить? Или распинать? Заносит тебя, Григрий Ефимович, в твоих стращаниях!».
«Плохого быть не должно? А оно есть! Хорошего должно быть через край? А его кот наплакал! Чем наоборотистее, тем скорее исполняется, – смущал регента Распутин. – Ждешь пожара, а случается наводнение. Я приму смерть за излишнюю покладистость, тебя проткнут, как бабочку, булавкой – за верность Христу».
Настои-отвары сибирских трав, собранных Распутиным в непролазной чащобе, ненадолго прорежали безумие императрицы, но оно возвращалось и прочнее завладевало той, что мнила себя хохлаткой-несушкой, канарейкой в клетке, загнанной охотниками ланью. Посреди непринужденного раута, морща лоб в конвульсивной судороге, царица объявляла: в вольере с рысью ей не ужиться. Имела в виду: свекровь, «теща Европы» – таким было прозвище рано овдовевшей прежней, не успевшей навластвоваться заглавной солистки, желавшей править наравне с сыном – подавляет нынешнюю претендентку? Ставила в тупик статс-дам: «Вы – улитки! Вылезаете из спирале-витых раковин и хватаете добычу, тащите в логово!». Огорошивала молоденького, не знавшего, как воспринять оказанное ему предпочтение офицера: «Вы – зебра». «Почему?» – бледнея, спрашивал тот. «Потому что шлагбаумы при въезде во дворец полосатые! Но ваша полосочка лучше, чем у генерала Бенкендорфа. Он – саблезубый!». Приказывала адъютанту: «Проводите меня, Стрепет!». И порывисто удалялась в непридуманный, подлинный зверинец Александровского дворца, открывала загоны, выпускала – на прогулочные дорожки! – слонов, ягуаров, пум…
Психиатр Федоров латал (как умел) провалы-разъемы нарушенного здравомыслия: «Улитки – безобидны. Поедают листья подорожника и салата. Добычу в логово не волокут. Попадется на пути козявка, они ее не тронут. Изводить полоску на тиграх и зебрах нет нужды, проще сделать шлагбаумы одноцветными». Ее величество прикладывала ко лбу ладонь (а надо бы – лед!) и, продолжая куриную аналогию, просила не тюкать ее в темечко. «Я хотела сказать: нельзя быть непорядочным, говорить сегдня – белое, завтра – черное, послезавтра – рыжее. В глаза – пятое, за глаза – десятое». И, в безрассудной припадочной заполошности, стенала: «Не отдам беззащитного детеныша в зоопарк!». Слышавшие эту абракадабру переглядывались, иные, не успевавшие угнаться за буйной (вот именно – внахлест бушующей, а не тихо-помешанной) экзальтированостью, украдкой крутили пальцем у виска.
С первых шагов по глянцевым паркетам Москвы и Петербурга лебедино-озерная Одетта не приноровилась (не сумела, не захотела приспособиться?) к промозглым, простецки-коварным нравам не распростершей ей объятья державы, к традициям морозной нации (недаром главный дворец здесь – Зимний!). Не обвыклась средь увальней-солдофонов, не притерпелась к их плоским плотским шуткам и не знающим удержу попойкам, не расположилась к оборотистым министерским женам, не разгадала: почему ямщики, крестьяне, солдаты, помещики и городская знать одинаково домогаются сивушного забытья? «Обреченная» – пронзило Виссариона Петровича, когда впервые увидел хрупкую орхидею, принесенную обманчиво-ласковым дуновением весны из тепличной Европы – в гущу метелей и таежного бурелома. Даже розе с оборонительными шипами – не расцвести, если застит солнце мохнатый можжевельник, наползает лишайник, боченится, не оставляя пространства вздохнуть, жесткий папортник, язвят еловые и сосновые иглы. В невозвратном заштатном дармштадтском далеке, в сказочном, как крохотная театральная кукольная сцена, королевстве остались подстриженные лужайки и взлелеянные искусными садовниками клумбы. Теперь принцессу-недотрогу сопровождали тускло мерцающие, не способные звякать лесные колокольчики и мертвенно квелые лилии застоявшихся прудов.
«Немец», «немцы» – не за кордоном, а в России учрежденный ярлык, он оповещает: «не – наши», «не – мы», «не – свои», «чужаки». Стенька Разин, повинуясь предубеждению, столкнул чужеземку в пучину вод, Екатерина Великая огребла пугачевский бунт (хоть, взойдя на престол, блюла русскость ретивее своих славянских сатрапов): неча сеять сорные (и сродные твоей дальноприезжести, матушка) травы немецких слобод и свобод и приваживать посягателей-откусывателей от российских караваев – эти пришлые лишь прикидываются паиньками, а приноровятся и отхватят по локоть кормящую их руку: варяги, хазары, монголы, поляки – несть конца нашествиям! Потому рачьи пятимся – избушкой на курьих ножках – поворотясь к незваным гостям бездверным задом, а, крыльцом – к человеконеобитаемой лесной чащобе, ибо чуем: открытость наша будет попрана!
Словоблуды изгалялись: «Женился безвольный царь на обратавшей его немочке, поручил заботу о потомстве французу мсье Филиппу, попугайское яйцо – вряд ли от Какаду Орлова, скорее, от мага-мясника! Но, может, и от Орлова, в прошлом похожее случалось (настоящее и минувшее склещиваются – как блудливые собаки!): фаворитами нерусской Екатерины были аж пятеро братьев Орловых. У немочек, прежних и нынешних, на уме одно: пернатое распутство (и любвеобильное распутинство)».
Ох, и презирал Виссарион Петрович пустозвонно-пустолголовую шатию, чье излюбленное (и единственное) занятие – облыжничать. Коль спросили бы регента о градациях высокой человеческой пробы, ответил бы: «Оселок – незлобствование и гармония». Иван Третий с византийской супругой Софьей Палеолог пригласили архитектора из Болоньи Аристотеля Хированти, чтоб возвел в Кремле Успенский собор – и возник неповторимый храм. Государя Александра Второго (избавителя крестьян от крепостного ярма!) просвещал (приобщая к свободомыслию) наполовину турок Василий Жуковский – друг Пушкина и отринувшего замшелые стеореотипы историка Карамзина (чья фамилия указывает на татарские истоки). Поэт Жуковский и немецкую жену Николая Первого (вкупе с ее условно русским мужем) пытался оцивилизовать – но безуспешно, и не учитель тому виной. Гениальный Пушкин – из африканцев, гениальный Лермонтов – из шотландцев, а сочиняли – вот уж не хуже чистокровно славянских пиитов. Собиратель пословиц Владимр Даль – датчанин. Как и открыватель земель и покоритель морей Витус Беринг. Неславянскирожденные Барклай-де-Толли и Багратион изгоняли Наполеона из России не потому, что он – сарацин, а потому, что нагрянул завоевателем. Левитан и Брюллов, Бове и Монферан, Гааз и Растрелли принесли России славу человеческой общности: посреди галилеянско-назаретской ненависти Иисус завещал любить даже тех, кто распинает – ибо есть надежда втолковать: распинать не следует. Ну, а волочить чужака за ушко и выискивать в нем худшее, припечатывать жупелами, а себя мнить непогрешимым – верный путь к одиночеству!
Не простили дармштадтской посланнице, что, недоизбыв траур по усопшему отцу Николая Александровича, простодущно склонила жениха к свадьбе: «На тризне – не ходят в подвенечном!». К тому ж бесханжески оскорбила почившего Александра Александровича, ненароком назвала его (в русле всепридворного окличивания-оживотнивания) работящим Волом. «Принизить Глыбу, Скалу, Утес – до Буйвола!» (Но последовательно вытекает: коль папаша – Вол, сынок – Теленок, то внучок – Минотавр!»).
После воловьей эпитафии загалдели громче: «Брунгильда!» Разнеслось: «Аликс Гессен-Дармштадтская вслед за гробом свекра пожаловала в Россию – не жди добра». Понапридумали: «Зарится на изобильную русскую мошну, издержалась принцессочка на платья для смотрин, она – из небогатых и опасается: царь найдет пару посостоятельнее». Вменили новоявленной, якобы чаявшей потоков золотого дождя Данае, метавшейся меж обманчиво сервильным мсье Филиппом и нараспашку голосящими о своей простоволосости (показной, которая хуже воровства) бабами-бабарихами, – то, чего пленница России и в помешательстве не измыслила бы: «Дева Мария понесла от Всевышнего, я отяжелею – от Святого Духа». (Заодно исподтишка ущипнули государя: не дотягивает монарх – до высочайшего божественного детородного уровня!). А бесстыжей фее не рекомендовали являться на панихиду «по Волу». Но она пришла, и – задразнили, напирая на материнский испуг: «В Московии «сглаз» – широко распространенный, повсеместно практикуемый народный обычай. Дабы опять не завязался в чреве (курам на смех!) волосатый кракатук («все скорлупки золотые», сказано у Пушкина, но о шестипалости у него речи нет), надо облечь наследника именем-щитом».
Царица поддалась: «Нареку Алексеем – созвучно Алисе и означает «защитник».
Распотешила никчемников и никчемниц, дала повод длить потраву: «Алексеев искони не жаловали на Руси – Петр Первый убил сына Алексея, Алексей Михайлович как правитель был слаб».
«А если Александр?»
«Второй? Был взорван. А Первый принял участие в заговоре против отца – Павла Петровича Первого. Ушел, сбрендив, босоногим по Руси. Хотите, чтобы отпрыск стал бродягой? Или злоумышлял против вашего богоносного мужа? Тогда сразу повеличайте Гамлетом. А мужу влейте в ухо яд».
Государыня погрузилась в святцы: «Может, Дмитрий? Принадлежащий Деметре, богине плодородия».
Камни для того и подбрасывают, чтоб о них спотыкались: «Зачем с греческого транскрибировать? Дались вам греки! Они суют руки куда ни попадя, и в них впиваются раки! Царевича Димитрия в Угличе пронзили ножом. У нынешнего великого князя Дмитрия Павловича мать скончалась при родах. Если не любо жить, имя «Дмитрий» – годится».
«Тогда Павел».
Это вызвало у советчиков заливистый нервно-возбужденный смех: «Куда конь копытом – туда рак клешней! Павел Первый, уже упоминалось, был удушен! Нынешний великий князь – отец оставшегося без матери Дмитрия Павловича, схоронил жену, спутался с искательницей высокого положения и богатств! Вам импонируют такие устремления, а цесаревич тут при чем?».
Царица вышла из себя: «Будет Николай! В переводе с греческого – победитель народов!».
Не устроило (и не могло устроить): «У евреев не принято давать сыну имя здравствующего отца. Только если отец преставился, тогда можно. Дашь одинаковые имена – кто-то из двоих убудет…».
У царицы сдвинулся ум за разум: «При чем евреи?»
«При том, что они в Российской империи – хоть и на задворках, за чертой оседлости и не имеют права оттуда высовываться, нация неглупая, приметливая, если избегают называть отца и сына одинаково, то и нам не пристало. Сопоставьте: Александра Третьего («Вола» по-вашему) звали Александром Александровичем – и что хорошего? Папаша его взорван, сам скончался до срока»…
Обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев прямо выложил: «Лучше Ивана не придумать. Ни с какой стороны не подкопаешься, исконно наше».
«В память об Иване Грозном?!» – Этого царица не хотела.
«А что? Сильный государь. Вольнодумных новгородцев топил тыщами, особо опасных на кол сажал».
«Он сына своего порешил. Невестку избил. Которая была на сносях».
«Случаются в семьях размолвки…».
«Будет Алексей!» – топнула ножкой царица.
С той поры ей впрямую не прекословили, но скрытно скрипели: «Не принесет имя счастья ни обладателю, ни Руси». Константин Петрович (уже неизлечимо больной) рассохшимся дискантом сожалел: не прониклась чужедальняя принцесса величием главенствующего в России в православия, отнеслась к превзошедшим прежние ее представлениям о Господе поверхностно, а могла найти утоление внутренним своим раздорам. Мещаночка, бюргерша, как ни прискорбно, – знай чертит отвратительный изломанный крест (мало ей, что мсье Филипп держал персты криво!), украшает сим остро-резким, царапающим, когтистым знаком, паучьей этой «свастикой» одежду, обои, корешки книг… На ее родине богохульство, вестимо, поошряется и презапутаннейше маскируется (недаром при крещении по лютеранскому обряду, какого, похоже, добивается для будущего наследника, крестоломательница получила нескончаемо долгое и ускользающее, лишь Распутину потрафившее имя Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадская), но в России не принято нарекаться многоступенчато и ломать кресты! Для Алисы Луизы Беатрисы святая Русь – постылая мачеха, а не теплая печь, на которой вольготно почивать и зачинать потомство, ей милее дырявить дворцы-колыбели династии Романеовых паровыми трубами – всю страну Луиза Беатриса пустит паром, ибо молится не киноварным киотам, расцвеченным красками из толченых уральских самоцветов, а слепленным из папье-маше и размалеванным на манер аляповатой открытки католическим куклам!
Град издевок обрушился на царицу и царя-«подкаблучника» за полночное омовение в Дивеевском роднике. (Виссарион Петрович поддержал выбор венценосцев, избравших небесным заступником подвижника Серафима). Константин Петрович Победоносцев, высоко чтя Саровского проповедника, отказался прославить его в лике святых: «С какой стати немка (и частично англичанка) будет диктовать, кого нам, русским, выдвигать в символ поклонения? Второпях и по частным поводам – таким, как игры под сенью Ивана Купалы в непалестинском Иордане – нимбы не раздают!» Заодно сардонически раскритиковал привычку украшать елки на Рождество: «Не растут в Назарете и Вифлееме елки! Не сопрягается елка с воловье-ослиными яслями. Вредны для отечественных лесов хвойные вырубки!».
Царь заспорил с Константином Петровичем (чего прежде себе не позволял). Жалок богопомазанник, мяучащий (а не грохочущий ружьями и кулачищем по столу): «Зря вы так, Константин Петрович! Про Ивана Купалу. Закаливать организм – полезно! А наряженные елки – чем не угодили? И колядки? И гадания со свечами перед зеркалом?».
Обер-прокурор взретивился: «Сколько раз говорено: множество богов наталкивает на мысль о возможности поделить земную власть! Этого хотите? Чтоб жена издавала манифесты, а вам от щедрот позволила призывать дождь на пашни? Нарекут уже не Иовом, а Барометром, по лбу стучать станут, если стрелка заедает!».
Самодержцы не приемлют выпадов – поперек руководимой ими отчизны и методов управления ею, а оно не исчерпывается (как полагают некоторые) протиранием штанов на троне и размахиванием скипетром, не ограничивается лясоточением и рассылкой распоряжений: что, кому и каким образом надлежит исполнить, дабы держава процветала. Государева призванность: взращивать в едва брезжущем настоящем – рубенсовские телеса могучего грядущего. (Да пребудут благословенны такие старания!).
Победоносцев свербел: «Не только из высоких помыслов вылеплены предводители. А – из нервов, сердечных приступов, залысин и слабостей, бывает, грустят и сердятся, как простые смертные, впадают в сплин, недомогают, ошибаются (хоть не принято это признавать). Но и в хандре, и в дни и часы военных и мирных триумфов, и во время любовных утех для правителя на первом месте – народ! Как быть, если приезжая командирша воротит нос от немытой (в лермонтовской трактовке) России, и все помыслы ее – загнать чумазых в баню? Я, обер-прокурор, отменяю насильственную помывку! Увидим, кто ближе народу: я или она?».
Николай Александрович понурился: «Куда ни кинь – всюду разноразмерные (от микроскопических – до исполинских) валуны преткновений, плебс винит проворовавшееся правительство, бомонд воротит нос – от простолюдинов, не читающих газет!».
Дух Вола (покойного свекра) не остался в стороне от полемики и вломился в будуар дивеевской чистюли (она и только она была причиной распри). Застыв на пороге, вепрь долго двигал челюстями (как если бы пережевывал сено или траву) и осуждающе взирал на казакин, собственноручно расшитый императрицей мелкой свастикой. Царица пыталась завязать беседу, Александр Александрович побрел прочь, не проронив ни единой членораздельности.
Напрасно успокаивали царицу: она сама открыла клеть с бизоном, он выбрался из зверинца и отправился гулять по дворцу. Перепуганная бородато-рогатым вторжением, Аликс вообразила: свекор порицает ее за то, что своевластно (переча мужу) поместила в залах и коридорах Зимнего, меж испокон веков висевших портретов русских верховников, бронзовый бюст Бирона – распорядившегося построить на Неве дом из льдин (там погибли представители многих национальностей, насильно привезенные для забавы потешно-показушного морозного бала, придуманного курляндским герцогом ради услаждения императрицы Анны Иоанновны) и гипсовую конную статую отродясь не бывавшего в России Ричарда Львиное Сердце. Собиралась внедрить еще и монументы Робина Гуда и Пер Гюнта (ее познания в истории и литературе были скудны), но визит Вола прервал реконструкцию.
Царица произвела демарш: обратилась за подмогой к дармштадтским пращурам. Используя магическую силу свастики, которую продолжала насаждать (так горький пьяница окружает себя полчищами чертей), вызвала тевтонских прабабушек и прадедушек, и они примчались (мертвецов только помани!): кто на помеле, кто в ступе, прикатили в полусгнивших каретах и прискакали верхом на лошадиных мослах – изъеденные червями, гремящие костями и клацавшие челюстями, вылезли из экипажей (и могил на лефортовском, то бишь немецком кладбище, все погосты мира связаны между собой), пеликаньи разевали клювы-утробы, птеродактильно разбивли грудными клетками стекла окон и лезли в дворцовые покои... «Фурии собора Парижской Богоматери, – охарактеризовал химер Победоносцев. – К нашим церквям такие горгоны-медузы не липнут!».
Аликс устроила в честь прибывших костюмированный прием – желая под благовидным предлогом приодеть предтеч в пристойное платье и сокрыть болтающиеся зловонные струпья. Клювастым остовам нравилось щеголять в шарфиках и набедренных попонах, но высшим шиком в их великосветских кругах считалось обнажить одно-два полированных ребра или берцовое сочленение. В русской жизни бенифицианты смыслили мало, калякали по романо-германски и существенной поддержки пра-пра-внученьке не оказали. Зато доставили массу неприятностей по праву находившимся в Петербурге и Царском Селе оседлым духам.
Победоносцев не давал в обиду потревоженные коренные прахи. Объяснял царю: приток пришлых потусторонцев и возрастающее количество иностранцев живых, наводнивших Северную Пальмиру, нанявшихся на госслужбу или желавших отдохнуть от дел – почему-то не возле теплых морей, а на промозглых брегах Невы, но в реальности не курортничающих, а целенаправленно подрывающих монаршее и церковное единоначалия – гипотетическими тереотезированиями о том, что пора приобщить неведомых на Руси Лютеров, Зигфридов и Генрихов Наварских к почитаемому отечественному пантеону, плохо влияют на умы сограждан. «Залетная левонская шваль навяжет нам в идолы топтавших псковщину захватчиков, лютеров и кальвинов, – беспокоился Константин Петрович. – Тогда уж лучше возвести в ранг робин-гудов своих доморощенных степанов разиных и емелек пугачевых!».
Государь рассудил, как всегда, двояко:
«Не бывать стенькам и емелькам на пьедестале! А родственники Аликс имеют право служить образцом для подражания! Русские витязи, конечно, превосходят пришлых, но ведь случалось нам звать варягов. Княжили, строили флот, шли к помещикам управлять имениями. Живым можно, а мертвым нельзя?». Отчитал зарвавшегося учителя: «Сами виноваты! Заупрямились по поводу Серафима Саровского, теперь получайте Ричарда с его львиным сердцем! И Пер Гюнта – с его троллями. Не дело обер-прокурора мешаться в международную политику (для этого есть министр иностранных дел) и порицать дамские (и дармштадтские!) капризы, на то есть муж». Резюмировал: «Давать в обиду иноземную родню не годится!».
Победоносцев закусил удила: «Звали варяжить, а они – в0ряжили. Чадили ересью – почем зря! И сейчас разлагают, вслед за антихристом Лютером: де священники не нужны, монастырские земли раздать и поделить! Изрыгают: церковь не должна быть богатой. Что ж она, с протянутой рукой пойдет попрошайничать? Храмы будут считать копеечки, а кошельки прихожан лопаться от червонцев? Тогда Господу предпочтут достаток и вовсе перестанут молиться: о чем просить, если сами успешливее богов и попов? Мы, православные, надеемся на Бога, а они, лютеране, на себя. Гордыня – вот их икона!».
Обер-прокурор изобличал тончайшие подвохи Аликсовых присных: «Де любой труд почетен, ибо избавляет от нищеты! А как быть с незаботой о завтрашнем дне? Она – оплот России! На ней зиждется философия небунтарства! Или с поучением: не зарекаться от сумы и тюрьмы – то есть от христовой стези? У Лютера были положительные качества: чурался евреев, приветствовал сжигание ведьм, нам экспортируют худшее из его наследия!».
Под воздействием неоспоримых доводов Победоносцева, государь заключил: «Отрицать необходимость острога и голоштанности недопустимо! Зарвались фантомы в своих вмешательствах в нашу самобытность! Пусть проваливают! Не их привилегия, а наша – быть нищеголодными и на казенном тюремном обеспечении!». При этом Николай Александрович тайком жаловался Виссариону Петровичу: приставучие переполнившие дворец малознакомые нетопыри его тяготят, держат себя развязно, изгадили ошметками гниющих телес Иорданскую парадную лестницу, набиваются (к царю!) в закадычные комрады.
Виссарион Петрович (хоть и не признавался обер-прокурору), воззрения Лютера частично разделял: денежный взнос не искупит убийств и воровства – даже если жертвуют на богоугодные нужды львиную часть украденного. Добытые продажей индульгенций доходы превратили Рим из затхлого городишки в сочащуюся роскошью столицу, но нужна ли Христу и христианству драгоценная оправа?
В завязавшемся препирательстве Распутин выступил третейски: «Пусть примкнут к русским немецкие и англо-саксонские эпосы. Коли мертвые хотят участвовать в плотских треволнениях, мы не вправе запрещать: загробные веси населены гуще, чем земные, средь истленцев поднакопилось больше гениев, чем среди живых!».
Всех без исключения витавших в воздухе и шкандыбавших по придворцовым аллеям духов Распутин одаривал участием. Приговаривал: «Нельзя делить вас на чистых и нечистых, перед «своими» стелиться, а гостюющих шпынять, это отсталый, средневековый взгляд, мы живем в просвещенную эпоху. Нельзя ссориться с тем светом!». И потакал государыне в трактовке любимой Александрой Федоровной поэмы Парни «Война богов»: «Николай Александрович не ошибается, привечая Велеса и Перуна. Сынок Алеша будет здравствовать при условии дружественного к нему расположения мира теней. Негоже воевать с ними!». О болезни цесаревича вывел: «Чтоб сыночек родился, об этом Бога попросили, а чтоб здоровеньким родился, об этом попросить забыли. А ведь это разные просьбы!».
Под защитой Распутина приглашенцы хорошели, тучнели, резвились в фонтанах Петергофа, водили Минотавренка на поводке по Царско-Сельским газонам, кормили дохлыми кошками и воронами. Духи-старожилы массово покидали родные урочища. Победоносцев, как мог, осаживал гвардию приблудцев, а они все неистовее ополчались против него.
Во время одного из визитов к обер-прокурору Виссарион Былеев застал главу Святейшего синода в полнейшем раздрае. Константин Петрович был бледен, большие хрящеватые уши дергались, как у ослика, изнуренного кусачими мухами. «Господи, помилуй!» – повторял нетвердым голосом обер-прокурор.
Оказалось: в его особняке завелись летучие крысы. Они завывали с пренеприятным акцентом: «Мы никуда из России не исчезнем!». Махая перепончатыми крыльями, потрошили книжные шкафы (издания на немецком и английском не трогали), грызли деловые бумаги. Через дымоход проникали в дровяные сараи, разбрасывали по двору поленья, безобразили на кухне: опрокидывали кастрюли, гремели сковородами и половниками, швырялись квашеной капустой. Прислуга отказывалась готовить обеды и убирать комнаты, убегала, не требуя жалования.
«Распутин может избавить от напасти? – возопил Победоносцев, до того слышать о занозистом старце не желавший. – Намедни скрали приготовленные по торжественному поводу ордена!».
Распутин ответно не жаловал обер-прокурора (знал: тот считает его, деревенщину, выскочкой), потому ехать к Константину Петровичу отказывался. Виссарион Петрович долго их мирил.
В смазанных дегтем скрипучих сапогах, Распутин прошелся по анфиладам, обследовал бельэтаж, заглянул в подвал и на чердак (Константин Петрович покорной овечкой плелся за ним), задержался в чулане и на черной лестнице. Изрек, втянув воздух чуткими ноздрями: «Дело не в призраках, а в тебе».
Победоносцев, покоробленный простецким обращением, передернул плечами и натянуто спросил, упирая на имя-отчество: «Поясните, Григорий Ефимович».
Распутин усмехнулся: «Что до пани-братства – оно не то же, что пани-кадило. Могу и на «вы». А хвостатый церемониться не станет, на «ты» будет звать. С ним лучше снюхаться».
У Победоносцева глаза полезли на лоб:
«Подружиться с нечистым? Ни за что!»
«Ты уже с ним стакнулся!» – взгляд Распутина – шилом, скучаюшим по дратве – гарпунил обер-прокурора.
«Я? С сатаной? Невозможно!» – облекся в неприступную позу Победоносцев.
«Вы, Константин Петрович, добровольно стали его пособником, – уже не «тыча», а максимально уважительно осоловьянил брюзгу Григорий Ефимович. – Серафима Саровского в святые почему не допустили? Это ли – не дьявольский кунштюк?».
Недумение Виссариона Петровича совпадало с распутинским: Константин Петрович, пуще многих столпов самодержавия оберегавший незыблемость трона, противясь прославлению дивеевского чудотворца, упускает: чем представительнее сонм защитников родной земли на небесах, тем праведнее и правильнее жизнь на Руси, тем могущественнее христова вера!
Распутин нарочно (или регенту казалось?) поддел Константина Петровича:
«Если есть Всевышний, должен быть и антипод. Мартин Лютер, коего ты не приемлешь, встречался с дьяволом и свидетельствует: «Нежелание признать материальность сатаны проистекает из напрасного страха перед ним». Недопущенный тобой в святцы Серфим видел ангелов, но и дьявол к нему захаживал. Богословы ранга Мартина Лютера и Серафима Саровского не боялись нечистого!».
Победоносцев крутился веретеном:
«Я полагал, сатана растворен в воздухе и дает о себе знать опосредованно…»
«Если Господь – реален, почему сатана – эфемерен?» – насупился Распутин.
«Мартин Лютер есть дьявол! – вскричал обер-прокурор. – Лютер и Люцифер неотличимы! Поделом последователей Лютера сжигали. Инквизиция дармовой хлеб не ела! – Но подостыл: – За что же я удостоен поганой отмеченности?»
Распутин ответил без издевки:
«Ты – соперник, с коим сатане трудно сладить. Иных он в грош не ставит. А навостряется к тем, кого не удается переломить. Доступненькие и без улещиваний и обхаживаний у него в кармане. Мартин Лютер считал: если дьявол пожаловал, значит, тот, к кому он явился, стоит посещения».
Летучие крысы («летучие голландки» – прозвал их Победоносцев, ибо стая оказалась сбежавшей с утонувшего и ставшего воздухоплавательным фрегата «Летучий голландец»), не подчинились Распутину: слишком галантно (исходя из их голландской родословной) он с ними обходился, и продолжили третировать Константина Петровича. Что ж, старец воздействовал на когтисто-перепончатых гадин, назначив мажордомом особняка Малюту Скуратова.
Победоносцева выбор восхитил. Ему импонировало, что тело выдающегося опричника, в соответствии с задолго до кончины собственноручно писанным им завещанием, закопали поперек входа в церковь, и прихожане, посещая храм, вытирали ноги о грешный прах. Добровольная самопопранность – залог преданного служения – и отечеству, и обер-прокурору!
Бывает, палачи сходят с ума в ожидании неоплатного счета, который им предъявят за страдания жертв и прочие сотворенные кошмары. Не расчитывая на божественное милосердие и смягчение участи (а испрашивать снисхождение не позволяет гордыня) и пытаясь избежать обязательной для всех процедуры потустороннего судебного разбирательства (без него не получить доступ в рай), изверги лишь ненадолго задерживаются в преисподней и спешат вернуться в ареалы прежнего своего всесилия. Азарт кровожадности в бесплотных телах хиреет, но – по причине редкостной трудоспособности – душегубы не желают впадать в бездействие: Кромвели, Дантоны, Робеспьеры и злодеи меньшего калибра – Ежовы, Ягоды, Пиночеты, вселяясь в бесцельно измаивающие земной срок полые человеческие оболочки, ищут и обретают свежие шансы применения истязательских умений. В блуждающего скитальца превратился и Малюта: вырвавшись из адских пыточных камер, преследуемый рвущимися растерзать его тенями и не зная, что столица перенесена в Петербург, он долго мыкался близ Новодевичьего монастыря, хоронился в пойме меж рекой Сетунь и ручьем Вавилон, дохромал (наступив на ржавый гвоздь) до Владимирского тракта, где запугивал проезжих купцов возмездием за обмер и обвес (выдавая себя обманутым покупателем) и подшучивал над бредущими по этапу каторжанами, суля избавление от кандалов; случалось, затесывался в труппы гастролирующих комедиантов исполнителем роли Ивана Грозного (полноценному воссозданию образа препятствовало отсутствие остроконечного посоха, коим Иван Васильевич разил родню и недругов).
На шхуне, назвавшись убитым сыном Петра Великого, Малюта отбыл в Ганновер, сдружился там с суровым Дантом (для выдающегося стихотворца и обуревавшей его поэзии пространство неба оказалось тесновато); посетил вместе с умершим во время хмельного застолья Петраркой Флоренцию; поскучал с Франсуа Вийоном на Елисейских Полях – всюду было муторно, неприкаянно, постыло. В Амстердаме и Кельне излил душу Вергилию и Жанне д,Арк – тоже не сумевшими примоститься к горней перенаселенности.
Возвратившись на родину и ища избу без красного угла (чтоб не испепеляли взорами иконописные надзиратели), Малюта натолкнулся близ речки Нерль на шатер монаха-расстриги Илиодора, вероотступник зазвал заплечных дел специалиста в Мариинскую станицу, в скит «Новая Галилея» и принуждал принять участие в мятеже против царя Николая Второго. Малюта отказался, за что был излуплен кистенем. Малюте после этого полегчало. «Жаль, мало поколотили! – думал он. – Побольше бы оказий для искупления!».
Крондштадтские редуты, куда Малюта доплыл на украденной у расстриги плоскодонке, как нельзя лучше годились для отбивания поклонов и расшибания лба о каменный пол (булыжники становились холодными компрессами на расквашенные участки лица), в промежутках меж покаяниями Малюта надраивал медь стоявших на рейде кораблей, тут и достиг пирса призывный распутинский клич.
Представ перед обер-прокурором, Малюта держался собранно, не хвастал знакомством с поэмами Данте и Вергилия, не размахивал кистенем и не шмолял в крылатых разбойниц из пищали, а, получив соизволение Победоносцева, оседлал подвернувшуюся радикулитно потрескивавшую спину перепончатой бестии – заевшейся, отяжелевшей, предпочитавшей скоромной проголоди изнуряюще обеды у императрицы – и до вечерних сумерек летал на ней над Невой. Крысы спешно покинули и Петербург (но вскоре они объявили Николаю Александровичу войну, названную Первой Мировой, и опять нагрянули в Россию).
«Будет много нашествий, – предрекал Распутин. – В 1914-м и в 1941-м, надо лишь переставить цифры местами».
Царица, всплакнув, объявила, что отбывает вслед за курфюрстной шайкой, упаковала помеченные свастикой чемоданы. Распутин ее удержал: «Погодь! Еще распогодится! Не уподобляйся бироновским последышам! Народ изгонит Фредериксов и Бенкендорфов и изберет нутряных, исторгнутых из своей гущи правителей. Эти правители замудохают его, покажут кузькину мать, отобьют на нем чечетку, дадут дрозда! Народ-разиня осознает отличие мягчайшей ущербности Николая Александровича Романова от ежовых рукавиц чекиста Ежова и свинцово-стального диктата Сталина, но русский этнос, разливанная со всем согласная податливость, так устроен, что найдет оправдание любому разлюли-всепопустительству: землю перестанут пахать, урожай – собирать, помыкать вольницей легче легкого: знай стучи в домино и навешивай себе на пиджаки золотые звезды – героя социалистического доминошного труда, превыше всего будет ценитьсят умение заложить за воротник и сыграть на баяне, последним вождем-охальником, многоженцем, выпивохой сделается мой земляк – не прочитавший по складам ни единой книжки Константин Устинович Черненко, его коротким, меньше года, правлением завершится ликующее своеволие масс, на трон вернется клика богатеев. Чтоб дать люду возможность сравнить правителей-самодуров с подобными тебе воркующими горлицами, ты должна остаться в благословенно дикой державе и претерпеть наитрагичнейший поворот судьбы! Портреты твои станут иконами!».
Царица подчинилась старцу.
Уверенное спокойствие источал похожий на обрусевшего Мефистофеля полуграмотный глашатай вечности! Шибало в нос от его заскорузлых сапог (исшагавших пол-России), траурная чернота под длиннющими ногтями и свалявшаяся борода ввергали в помрачение. Но к поборнику и отстаивателю Божьих требований – срывающему покровы, неустанно и неусыпно бередящему подколодности (а даже лучшим из лучших есть что скрывать и чего стыдиться) – приложима не иконописная елейность, не безукоризненная белизна отутюженных воротничков и ниспадающих риз. Миссия прорка, презирающего угодливость, пугающа, голгофна.
«Я не ясновидящий, а насквозь видящий, – признавался Распутин регенту. – Ни на иоту не потрафлю освиненным фарисеям!».
Поверх слепой толкотни близоруких мнений, Распутин прозревает и оповещает – не втирушичая, не лукавя (а чего проще?): малейшее уклонение от налагемых совестью обязательств искажает Божественный замысел. Глас Судьбы вибрирует в призывах: «Радею о закосневших, живущих, будто после гроба ничто не ждет!», «Не накликиваю беды, а упреждаю: торопитесь очиститься, ваш предел – на исходе!». Но проповедует старец средь глухих. Редким из предвосхитителей апокалипсиса удается докричаться до современников: не стакнуться завтрашнему – со вчерашним!
Обреченность провидению – не дар, а проклятость. Дымка непредсказуемости – милость для большинства. Немногие выдюжат тянуть бурлацкую лямку не подлежащего обжалованию приговора, зная, что за благие усилия воздастся обратным.
«Об этом и поговорка: «От добра добра не ищут», – повторяет Распутин. – Не жди, что, выбрав стезю Христа, будешь осыпан милостями! Тем больше ударов получишь, чем сильнее возжелаешь походить на Него! Забирая часть Его ноши, сопрягаешься с прибавлением горестей, ударов, шпицрутенов».
Хватало поводов убедиться в правоте безотдохновенного доброделателя.
Петр Аркадьевич Столыпин – после того, как бомбисты взорвали его дачу на Васильевском острове – упросил Распутина благословить чудом не погибшую дочурку. Григорий Ефимович повез девочке икону Симеона Верхотурского. А Столыпин, едва рассеялся пороховой дым и миновал страх утраты раненого ребенка, возглавил хор требовавших изгнать старца из Петербурга. (Вот она человеческая, столыпинская мораль!).
Сеанс отваживания от винопития одного из камердинеров в Александровском дворце завершился тем, что Распутин, наполнив рюмки ядреной «Смирновской», превратил веселяще-одурманивающий водочный спирт – в березовый сок. Окропил этим соком бокалы красного «божоле» и штофы с коньяком, поводил руками, жидкости обесцветились. Дегустаторы признали: влага обезградусилась. Исцеляемый ощутил отвращение к самоопаиванию. Однако любителям заложить за воротник – бессменным опустошителям провиантских подвалов – неудобны трезвый камердинет (и трезвый царь). Пригубившие сок из больших и малых емкостей не скрывали разочарованность.
Представитель японских промышленных кругов (Виссариону Петровичу довелось присутствовать при разговоре) склонял старца (за громадное вознаграждение) отыскать в Сибири золотоносную жилу: «Вы на сто саженей под землей видите! Получу концессию, половина дохода – ваша». Распутин отказался. Японец – за еще больший куш, соблазнял Григория Ефимовича найти в Аргентине скопление алмазов. И опять просьба была отвергнута: «Изымать золото, алмазы, уголь – можно, если от их перенасыщения болезнь, как от камней в почках, а если выковырять нужные Земле минералы, планета занеможет!».
Сыночка Петю изнуряли головные спазмы, лучшие врачи не умели ему помочь. Личные лекари царя Фишер и Боткин пичкали мальчика заграничными микстурами, прописали физкультурные упражнения и моционы перед сном – впустую. И другие наиизвестнейшие чудодеи (наличие знахарей, костоправов, травников возле первостепенных особ – непременный атрибут нездоровой власти), как ни тщились, ни нахваливали себя, страданий Петруши не уменьшили. Обратиться к Распутину Виссарион Петрович не решался – отговаривали министры и священнослужители: «Не божественной, а дьявольской силой наделен сиволапый вахлак!».
Популяризатор тибетской медицины (и сторонник медитации по системе йогов) бурят Бадмаев (он прислуживал еще Александру Третьему и, по неподтвержденным данным, убеждал царя стать кришнаитом) предостерегал Виссариона Петровича: «Всклокоченному сибирскому лешему не верь! Ну, изшастал оптинские скиты, побывал в Иерусалиме и на горе Афон, совершил хождение из глухоманского своего села в Киево-Печерскую лавру (продолжалось оно полгода, преодолено было пешком три тысячи верст!), но и самое долгое странничество не заменит получасовой общеобразовательной лекции для медсестер». Шанхайские пиявки и лежание на битом стекле, заверял Бадмаев, принесут Петру выздоровление!
Что ж, регент отправился к Бадмаеву на дачу, на Поклонную гору (поблизости от которой, подозревал Виссарион Петрович, тот и вылавливал своих упитанных пиявок). Бадмаев принял гостя, восседая в позе лотоса на остриях винтовочных штыков, щетинисто торчавших из крышки большого фанерного ящика. Слез, не поранившись, со штырей, запахнулся в цветастый халат, скрыв под ним набедренную повязку, облобызал по-кришнаитски слюняво и выложил: добудь у царя два миллиона для присоединения Монголии к России, из этой суммы на лечение Пети перепадет треть…
Распутин сделок не заключал. (На штыки, разумеется, не садился). Подошел к Виссариону Петровичу после обедни в храме Христа Спасителя и сказал: «Знаю твои печали». Приехал на Зубовский бульвар, где в спальне стонал от непрекращающейся боли сынок. (Не в силах видеть его муки, Виссарион Петрович отмел сомнения и вверил чадо старцу.) Неслышно ступая козловыми мягкими полусапожками, Распутин приблизился к ребенку, возложил на горячий лобик золотой нательный крест с надписью «Спаси и сохрани!» – подарок государя, покусал кончик косматой войлочно-мочальной бороды и доступно обрисовал причину недуга: «Стригли мальчика? А состриженные волосики на улицу бросали?»
Деловито Григорий Ефимович посоветовал:
«Взобраться на дерево, гнездо не разорять. Но добыть состриженные локоны».
По незнанию регент и супруга выбрасывали детские волосики, их подхватывала и выстилала ими гнездо обитавшая на ближайшем высоченном тополе пара ворон. Воронята теребили светлые прядки – и натянутые эти струны издавали мелодию нескончаемой тяготы. (Не она ли служила причиной вопиющих слов и поступков сына?).
Распутин дал рекомендацию: втирать в макушку Пете масло, доставленное с горы Афон – над склонами ее, легко прикасаясь к травам стопами, реяла Пресвятая Богородица. Сам снарядил в Грецию надежного человека, тот привез монастырскую травяную выжимку. Боль ушла! Сыночку полегчало! С той поры Виссарион Былеев благоговел перед старцем. Бесноватые глаза не ввергали в оторопь. Спутанная борода не казалась козлиной. Без предубеждения регент принял приглашение погостить в родном сибирском селе Распутина Покровском.
Ненавистники ярятся: с ошибками, косноязычно пишет и говорит самозванец-шарлатан, проходимцу не переплюнуть и не затмить лекарей-светил! К слабенькому цесаревичу обнаглевший дежавюшник приезжает, когда придворные эскулапы уже обкормили Алешу снадобьями и свели приступ на нет, после этого несложно поднять истекающего жидкокровием ребенка на ноги. Но опорочить Григория Ефимовича не удается, те же самые доктора признают: стоит Распутину появиться возле Алексея – мальчик преображается, превозмогает хворь. Что до неотесанных манер – откуда взяться лощености, если вырос Григорий Ефимович не в особняке с лакеями, а на пашне, азбуку постигал самостоятельно, без присмотра бонн и гувернеров…
В Покровском регент видел: от рассвета до заката работают в поле жена, две дочери и сын Григория Ефимовича.
Добытые в столице подношения Распутин раздаривал: односельчанам – на ведение хозяйства и обучение детишек, монастырям, просителям, что выстраивались возле подъезда его дома длинной очередью… Говорил (никого не порицая): «Надо сторониться богатства». Изучал священные книги, делал выписки, просил Петрушу, чтоб знакомил его с университетскими профессорами – всеми способами восполнял нехватку образования. О чистописании имел собственное, забавлявшее регента убеждение: «Пусть будет «карова» через «а», пусть на магазине вывеска «суки», я пойму: торгуют сумками. Уполовиненной грамотности вполне довольно: обмолвки и запинки скажут больше, чем гладкоречивость. У одних дар беспомарочно водить перышком и языкатить, у других – исправлять вселенские спотыкания. Не по затверженной прописи, не от кучерявой, а от корявой души обращаюсь к Всевышнему. Обзову министра «регистром», он министерской должности не лишится, а если царю или Богу пожалуюсь, пусть неграмотно, на этого министерского прыща, он с возвышения сковырнется».
Докапывался: «Из какого вещества сотворены наши мысли? Ни мозг, ни рука, ни мизинчик не могут быть их причиной. – Пристально Распутин вглядывался в регента. – Гвоздь произведен из железа. Мост через реку выструган из дерева. А откуда взялась идея надречной переправы? Не оттого ли, что Христос прошел по воде? Бог гвоздями распятия вколачивает в неразумные наши чресла – стигматы озарений. Коли знаешь дорожку в заповедник недовоплощенных Господом адамов и выточенных из ребер ев, сумеешь выкликнуть из мрака – как Пушкин – Ленского и Онегина, как Гоголь – Хлестакова и Манилова. Их не было, а – явились: придуманные или подаренные нам Господом? Родился я слабеньким не жильцом, изводили и избивали меня в родной деревне, а я за надругательства возносил хвалу. И снизошло: отдай плоть розгам, предоставь тело оводам и комарью – выпусти из себя больную кровь. Но после смерти моей разграбят мой дом, опорочат семью. Таков удел избранных, приближенных к Тому, Кто велел нам быть».
Проклинатели, уж ладно, стиснув зубы, примирятся с тем, кто богоизбран,, но отмеченность земным успехом и предпочтением кесаря непереносимы для рвущихся в первые и остающихся второстепнными! Эти-то гонители-гнобители вынудили Григория Ефимовича покинуть Петербург. Он не прекословил, отбыл.
В тот же час Алеше стало худо: потерял сознание, набряк подкожными синяками. Срочно вернули старца. Распутин молился за денно и нощно. Никого из завистников не журил. Цесаревич выздоровел.
И опять зашевелилась свора: «Слабый царь под пятой у Распутина. Слабый – значит: пустой. В пустом скворечнике хозяйничает кто ни попадя: галка, поползень, скворец! Пустышкой вертят и помыкают все!».
Отбрось ложь – никогда не черствеющий хлеб начетчиков-изменников – обнаружишь очищенный от фальши ответ: псевдозаботники исподволь лишают Россию государя, а государя – царства, умышленно разлучают Григория Ефимовича с приговоренным к небытию Алексеем, добиваются, чтоб наперекосяк шли дела в Думе, церковной соборности, в Совете министров, по всей стране. Дееспособен государь – жива империя. А некому станет передать корону – опустеет трон. Жизнь монарха, потерявшего сына-наследника, лишится смысла.
Григорий Ефимович, претерпевая напраслины, лишь молился и повторял: «Пустота в душе – не заполненная Господом – обживается мелкобесьем». Виноватился: «Подлости творит отираюшиеся возле трона греховоды! Ведь Алеша теплится лишь моими стараниями, может вспыхнуть и погаснуть. Не только одаренные, смелые, умные, а и трусоватые, и глупцы имеют право любить семью, защищать детей – почему Николаю Александровичу отказывают в этом?».
Временами уходил в себя, уносился в далекие, лишь ему ведомые пределы, взгляд тускнел, как вечерний воздух. С губ срывалось: «Разве Кассандра отверзала уста не одновременно с Богом? Сократа возлюбили за обличения? Сколько раз готовились казнить Нострадамуса! Жанну д,Арк, даже вооруженную мечом, сожгли! А ведь Нострадамус излечивал людей от чумы. Его «розовые» таблетки выручат Алешу...».
Разговор с невидимым собеседником длился порой часами: «Миф… Мифле… Вифлеем… По-русски «гость» значит «гость». А с английского «гоуст» переводится: «призрак». Много призраков!».
«Ты о чем?» – спрашивал регент.
«Мифле – фамилия убийцы».
«Кого он убил?».
«Убьет. Андрюшу Ющинского».
«Кто такой Андрюша Ющинский?».
«Предварительная жертва. Приношение Минотавру».
Огромную Россию не всколыхнула свара дармштадских и петербургских бездыханцев. Но Распутин предвидел последствия: «Разверзается пиршество убийств – уже не в лабиринтах дворца Миноса, а в Царском Селе: в надсмотрщики нам дан шестипалый старший брат Алеши. Потаенного Минотавра возведут на престол, а над слабеньким цесаревичем занесен кинжал. Древние не завещают потомкам случайных притч…».
Очнувшись, Распутин радовался, что рядом терпеливо ждет его просветления регент, сообщал Виссариону Петровичу: через полтора века после смерти Нострадамуса вскрыли усыпальницу средневекового поэта-провидца, чтоб перенести прах предсказателя в специальный грот, и увидели на шейных позвонках стоящего скелета (умиравший приказал, чтоб его погребли в церковной стене в вертикальном положении) медальон с выгравированными цифрами: 1700 – то был год состоявшегося вскрытия могилы…
Распутин делал вывод: коли будущее дано предсказывать (с поразительной, год в год совпадающей выверенностью!), значит, можно его шлифовать – до безупречности, изначально оно отлито – в небесной плавильне – в форме приблизительной болванки.
«Пока не отсечем лишнее, низменную нашу неизменность, продолжится гонение на мессий, прельщение предательскими сребрениками, смакование выставленной напоказ наготы хмельных отцов, пятнание эдиповыми оскорблениями матерей, ироды в парчовых туниках не перестанут приносить жертвы, вновь и вновь будет искушать нас диавол на крыле храма и говорить: ты – сын Божий, сигани вниз… И бросимся – в надежде, что анегелы не дадут упасть, и забыв: не напасешься ангелов на грехи наши…».
…Фредерикс деликатно теребил регента за рукав:
– Виссарион Петрович, ваш ход!
Регент не сразу высвободился из наплыва видений.
Престарелый министр, по-птичьи склонив напомаженную головку, подступил к занимавшей его куда больше, чем шахматы, неясности:
– Осмотр Ливадийского дворца – не более, чем предлог. Какова истинная цель поездки, Виссарион Петрович? Вам наверняка известно… – Видя: регент не спешит отвечать, хитрец подмаскировал неприкрытое любопытство: – Как дела у дочерей? У Надежды Ивановны? У сына?
При внешней отменной светскости, граф не был утончен: обходительность не присуща конюшим, даже ранга заседателя Государственного Совета. Предотвращая возможные последующие неловкости, Виссарион Петрович прибег к встречной казуистике:
– Все в добром здравии. А как поживает Ядвига Алоизовна?
Не прошло пяти минут, дверной проем закупорила гренадерски могучая фигура дворцового коменданта генерал-лейтенанта Владимира Александровича Дедюлина. «Помяни мое слово, он застрелится, – говорил о нем Распутин. – Не дано опереточному паяцу двурушничать, а он водит дружбу с врагами государя!».
Высоченный Дедюлин вострубил:
– Виват! Я – на победителя! Хотя вы таких арьергардов понаворотили... – Отгремев ухающей канонадой, Дедюлин тоже пустился в выведывание: – Спорят, где уместнее праздновать столетний юбилей Бородинской битвы. В Москве или Петербурге? Сомневаются: Москва была сдана неприятелю. Но я – за Москву. Куда и зачем мы едем, Виссарион Петрович?
К импозантному Дедюлину спустя мгновение примкнул, бравируя выпирающими бицепсами и покачивая атлетическим торсом – будто был в спортивном трико, а не в облегавшем мундире – начальник канцелярии Министерства Императорского двора Александр Александрович Мосолов. Обстоятельно и без тени иронии доложил: через полчаса займется укреплением трапецевидных мышц при помощи эспандера, а курс упражнений с гантелями уже проделал. Чугунные гири и миниатюрную, заказанную в Австрии штангу с набором съемных грузов, Мосолов возил с собой в специальном кофре.
Мосолов, как и Фредерикс, долгое время служил в лейб-гвардии конном полку, затем, не без протекции своего приятеля Дедюлина, пошел на повышение, получил звание генерал-лейтенанта.
Нависнув над полем битвы, Мосолов вкрадчиво завел:
– Ба, Куликово поле! Взятие Измаила! Покорение Сибири Ермаком! Ермак завоевал Сибирь немалым войском, а сибиряк Распутин подчинил Россию без единого выстрела. Наш марш-бросок ввергает в недоумение. Если едем по настоянию Григория Ефимовича, отчего он не составил нам компанию? – Произнеся это, начальник канцелярии облизнул губы и выжидательно уставился на Виссариона Петровича. Его зеленоватые глаза настороженно ловили реакцию регента: точь-в-точь Мурлыка Котофеич (именно кошачью ипостась выявила в нем и означила прозвищем царица), охотящийся за мышью или предвкушающий сметанное лакомство. Расплющенный во время гимнастических кувырканий нос и торчащие усы усиливали сходство с щеголявшим в сапогах персонажем сказки Шарля Перро.
Мосолов пребывал в распре с Распутиным и переживал из-за этого: нелады начались после оскорбительно предложенной Григорию Ефимовичу взятки, переданной через Мосолова товарищем министра внутренних дел Треповым (на чьей близкой родственнице Мосолов был женат) с присовокуплением нижайшей просьбы к старцу – не сбивать царя с толку подсказками: кого продвигать в правительство, а кого от министерских постов освобождать. Портфель с полицейскими деньгами Распутин наподдал ногой, а Трепову задал трепку: «От таких дурных людей, как ты, Трепов, «папу» и «маму» буду ограждать!». Мосолов простить себе не мог, что ввязался в попытку подкупа, глупая неосторожность могла помешать дальнейшей карьере.
Фредерикс совершал бессистемные, импульсивные ходы. Потеряв три пешки, а затем коня («Полцарства за коня» – бормотал старичок), он приуныл. Но ясные, с красноватыми обызвесткованными прожилками глаза смотрели с кроличьим упорством.
В купе слева фальшиво напевал арию «тореодора» почетный лейб-медик, приват-доцент Военно-Медицинской академии Евгений Сергеевич Боткин («Ботик», сын знаменитого основоположника школы клинической медицины), сопровождавший государя во всех поездках. Из купе справа, где нещадно курили княжна Вера Игнатьевна Гедройц (крепкого телосложения усатая дама с грубоватыми ухватками по прозвищу «Жорж Санд Царского села» – но, может, такой и должна быть врачиха, возглавляющая Царскосельский придворный госпиталь и преподающая государыне Александре Федоровне и ее дочерям хирургические премудрости?) и сопровождавшая свою госпитальную начальницу медицинская сестра, бывшая фрейлина Муханова («Муха»), вышедшая замуж за поручика лейб-гвардии конного полка графа Нирода («Ирода»), сочился в делавшийся все более душным пенальчик Виссариона Петровича едкий дым: вражеское вторжение, начавшееся блошиным набегом маленьких шахматных фигурок, разрасталось до уланских узурпаторских габаритов.
Дым першил в горле, Боткин пел безголосо, говорившая басом Гедройц и по-комариному писклявая Нирод обсуждали моду на полосатые купальники. Регенту не удавалось внести в шахматный поединок толику стройности. Не терпелось завершить перламутровую тягомотину. Но число желающих доканать и заковать в невольничьи цепи росло: из соседнего вагона пожаловали обер-гофмаршал императорского двора – разумеется, сенатор, разумеется, генерал-от-кавалерии (как обойтись без конной составляющей?) – граф Павел Константинович Бенкендорф и глава дворцовой охраны (пучеглазо-вишнево-багровый, при шашке и револьвере, да еще и в папахе! – скорее, свадебный, а не жандармский генерал) Александр Иванович Спиридович, кажется, оба подшофе. Выказыв формальный интерес к баталии («Это Цусима, Порт-Артур!»), с места в карьер влились в нашпигованное множеством подтекстов подначивание:
– Жаль, Николай Александрович не играет с вами. Но он большей частью в картишки!
– В любимый «безик», чтоб картинка к картинке: дама, король, валет… Дама главнее всех!
Вальяжный Бенкендорф, отдавая дань стратегическому дару Виссариона Петровича (то есть умело похваливая – понятное дело: предок, начальник охранного отделения, преуспевал не только в слежке за Пушкиным, но и на дипломатическом поприще в Париже), с утрированным надрывом сопереживал провальной тактике Фредерикса:
– Король по шажочку, а королева – как вздумается! Велика ему шапка Мономаха, он ее придерживал на коронации, чтоб не наползала на глаза, а царице эта шапчонка впору…
– Король потому слабее королевы, что в нем половина немецкой крови, а в царице – три четверти, – вторил пучеглазый Спиридович. – Три четвертых побеждают половинчатость. Скоро сделает его окончательным немцем! Или англичанином? На четверть она – англичанка. –.
Подмывало осведомиться: каким прибором вымеряли доли? Но регент не спешил приподнимать забрало, предполагая выявить глубину царенеприятия присягнувшими государю и забывшими собственные клятвы златоустами. Конные эскадроны и пешие полки – обоюдоостры и предназначены для внешнего и внутреннего употребления, не замедлят повернуть штыки против тех, кого призваны защищать – ставших ей неугодными сограждан и самого царя. Да-да, лишь кажеться, что армия выполняет приказы Николая Александровича, в действительности: он – в плену у своих же войск.
Виссарион Петрович мысленно вопрошал: «Откуда взяться патриотизму, если высшие чины не ставят ни в грош не только солдат («пушечное мясо»), но и престол?
Спиридович тужил-кручинился:
– Сядут рядышком и читают Гете и Гейне. Это ж надо: глава империи – размером с пигалицу-пешку! Даже в шахматах король и королева крупнее прочих фигур! А в жизни – наоборот!
Бенкедорф тщился выражаться претенциозно:
– Он – Романов, она – немочка, вот и получается: живем в романо-германской стране. Государь вершит дела еле-еле, е-два, е-два. Ему давно пора объявить мат! – Новоявленный цицерон сам первый засмеялся собственному каламбуру.
Мосолов не отставал от дружков:
– Авантюрную фигуру Распутина давно пора показательно скушать. Как вы только что изволили сделать, Виссарион Петрович!
Искоса регент изучал Мосолова, Бенкендорфа и (соболезнующе) Делюлина (разве можно не сочувствовать самоубийце?) и примеривался понаповалистее срезать безудержцев. Извинительно (с натяжкой), если перемывают косточки пустоголовые гризетки, но мужчины-трещотки-сплетницы – стыд и нонсенс: внушили фрейлине Тютчевой: «Вам, внучке великого поэта, не пристало оставаться подле царицы, коль якшается с нечесанным Распутиным!», а императрице напели: «Тютчева влюбилась в Распутина!». Дочь врача Боткина (ее недавно произвели во фрейлины) не позвали в Крым, неприглашение свалили на Юлию Ден, будто бы вычеркнувшую новенькую из списка... Ни окриком, ни кнутом иерихонских трепачей не пронять. Поговорка «Не в коня корм!» – при всей овсовой кондовости – точно передает нравы фыркающей, ржущей, бесновато скалящейся жеребячьей породы.
Чтобы протолкнуться в высокопоставленный табун, необходима ухоженная холка (ум и совесть необязательны), а допреж породистой гривы – родственно-наследственная причастность к привелигированному клану. Дошло до того, что управляющим дирекцией императорских театров тоже назначен «лошадник» – полковник Теляковский, про которого то ли шутят, то ли всерьез (поди разбери) придыхают: фамилия телячья, заведовал клячами, теперь – артистами. Привольно и обособленно гарцуют коне-люди на изобильных, не ими вспаханных и засеянных нивах, нагуливают крутые бока и ляжки – в противоположность пухнущей от мякины, однако, исправно снабжающей кентавров отборным кормом родине…
Россия – под пятой лишь внешне эффектных россинантов. Коне-мужланы, прикрываясь богатыми попонами и сияя золотыми шпорами-подковами, кроят выгоду, заключают, ради поддержания своего позерского превосходства, позорные компромиссы: Дедюлин – в недавнем прошлом градоначальник Петербурга – теснейше связан с ненавидящим царя председателем Госдумы Михаилом Родзянко (учились вместе, с тех пор изменнически неразлучны); Мосолов – составитель витеватых указов, призванных улучшить жизнь простого люда, спит и видит поскорее ускакать из взбунтовавшейся страны, исхлопатывает назначение в Румынию; Спиридович – исполняя обязанности начальника Киевского охранного отделения, попался на воровстве (а, вместо порицания, повышен в звании); Бенкендорф – непревзойденный мастак словесного изгрязнения всех, кто превосходит его хоть в чем-нибудь, не щадит прежде всего благодетеля, Николая Александровича, которму обязан всем, забыв: в девятом, самом страшном круге ада, маются предавшие покровителей!
«Иисус изгнал торгующих из храма, а царь таких пригревает!» – огорчается Распутин. Прав сын Петруша, написавший в реферате: кентавры превратились в необузданное стадо, когда животное начало взяло в них верх над человеческим.
«Лошадино, зверино, необъезженно, мустангово устроено общество, – думал регент. – Николай Александрович надеется безоглядным доверием («не воспользуйтесь во зло моей открытостью!») побудить хвостато-копытную свору к соблюдению долга. Но порядочность изначально неприсуща взмыленно несущимся вскачь и готовым истоптать каждого, кто мешает им стяжать чины и наращивать богатства рысакам: набивают брюхо и тут же, близ кормушки, лягают щедрого хозяина! Осыпанных благодеяниями неблагодарцев не оприличат ни чудо-город на Неве, ни европеизированные стойла (роскошеством не уступающие венецианским и римским) – по всему видно, напрасно старался царь-плотник Петр Великий, прорубая окна с видом на Париж и Лондон. Безголовые всадники давно вмяли бы Россию в навоз, не умей их унять коноводы вроде Распутина. «Я таких мальчишкой в ночное гонял. И повадки их изучил. Они лишь для близиру в мундирах и при оружии, а случись волк иль волчонок – ускачут без оглядки, только их и видели!» – смеется старец.
Фредерикс, отвлекшись от шахматной кутерьмы, подал голос: главную задачу как министр он видит в попытках убедить государя чаще выезжать верхом, ибо конные котурны компенсируют нехватку роста.
Остальные подхватили, забалаганили:
– Измельчала царская порода!
– Недомерок!
– Обмылок! Малявка! Заморыш!
– У них принято нести яйца и высиживать немчурят…
Бенкендорф пыжился в титанической ораторской потуге:
– Я с Распутиным солидарен: нельзя воевать с Германией. Вдруг возьмем верх? Унизим кайзера. Аликс подсуропит победу своему сухорукому родственничку – гальванизированному Вильгельму!
И опять понеслось:
– Мы, с громадной нашей армией, закидаем их шапками!
– Закидаем ли? Александр Александрович был Зевс. Громовержец. А нынешний – не Антей и не Геракл.
– Когда афганские войска под началом англичан захватили Кушку, а городок-то ведь на границе нашей Закаспийской области, и генерал Комаров их оттуда выбил, посыпались из-за границы ноты протеста, наш министр иностранных дел, до чего дошло, потребовал наказать Комарова. Но Александр Александрович велел наградить Комарова золотым Георгиевским оружием. Сказал, что и весь Афганистан подомнем!
– И Туркестан он подмял. И Бухарское ханство. И Хивинское ханство… Сперва Александр Македонский туда пришел, а потом наши Александры Второй и Третий! Николя – не годится ни на что!
– Да, на своего отца, Александра Александровича, поскребыш не похож…
– Царь без царя в голове! А отец, верно, был могуч, высок...
– Высокий Александр Первый малютку Наполеона по всем статьям побил!
Бенкендорфу представился повод оседлать заезженного конька, при любом подходящем случае он воспроизводил семейную сагу:
– Мой предок, создатель охранного отделения, умыкнул у Наполеона любовницу. Увез из Парижа в Петербург. Обещал жениться и не женился. Натянул нос Бонапарту! Ну, и чем Бонапарт после этого велик? Такой же крошка Цахес, как наш нынешний англо-немецкий гибрид!
Мосолов высказался совсем негоже:
– Немасштабного человека на какой трон ни взгромозди, уменьшит пьедестал до размера собственного убожества…
Дольше отмалчиваться было нельзя, регент произнес:
– Просим у Бога облегчения, но Христос указал путь, ведущий к утяжелению страданий.
Прозвучало обтекаемо. Гривасто-хвостатые оппоненты не поняли. Вернее, не так поняли. Зачислили Виссариона Петровича в союзники.
Спиридович – в папахе, будто кашеварил в высоком поварском колпаке, запустил половник в заведомо богатый уловом котел:
– Царица прежде чертила инициалы «А.Ф.» в виде шестиконечной звезды, теперь увязывает их в свастику.
На увесистую добычу (хрящеватый оковалок? рыбешку? клок сена?) набросились скопом: пустились обсуждать подарки, присланные императрице из Баварии к дню именин: перстни, серьги, столовый набор на двенадцать персон, платиновые овальные блюда, маркированные «благими» знаками:
– Не православными крестами помечены вещички!
– Не только от иерусалимцев наши беды!
– «Свастика», в переводе с санскрита, означает: «благое», – блеснул (теперь оккультными познаниями) Бенкендорф. – Известна с эпохи палеолита. Мистический символ в Индии, Китае, Японии, на Балканах и, что особенно примечательно, у древних германцев.
Мосолов и Спиридович кривлялись:
– Не одну ночь переутрясали списки едущих в Крым Аликс и Вырубова, ставили «плюсы» и «минусы» против каждой фамилии…
Дедюлин, до поры выжидательно помалкивавший (видимо, в нем теплились остатки порядочности), подвякнул (чего делать не следует: любой поддакивающий выглядит несамостоятельно, подобострастие никого не красит):
– Когда спускали на воду броненосец «Александр Третий», сорвался флагшток и убил генерала Пирамидова и двух кадетов морского корпуса. Почему произошла беда? Потому что на церемонии присутствовала царица: куда ни придет, приносит несчастье!
Раздосадованный тем, что, оставив в покое царя, выбрали мишенью государыню, Виссарион Петрович уже не сдерживался. Вояки… Смельчаки… В глаза царице елейно поют осанну… А за глаза? Кричат «ату!»
Он сказал:
– Здесь присутствующие ведь приложили немало усилий, чтобы оказаться среди приглашенных…
Повисло молчание. Недолгое, впрочем: обволосненные вытянутые морды не покрылись пунцовыми пятнами – следами словесных пощечин. Да и стоило ли ждать попятности от зашоренных, пропахших ядреным потом, толкавшихся крупами сивых меринов, если даже в спрямленно копирующих жизнь шахматах кривые кони скачут криво – буквой Г! Виссариону Петровичу не мнилось, а въяве виделось: на одеждах и сбруе виснут, вместо орденов, сгнившие яблоки – недаром о лошадях говорят: «серая в яблоках»...
Регент выразился определеннее:
– Кабы Николай Александрович надстоял над нами Гераклом, что это изменило бы? – При этом избегал глядеть на выпиравшие бицесы Мосолова. – Оптинские старцы немощью своей упрочивают православную веру убедительнее, чем здоровяки из Союза Михаила Архангела. Христс показал: слабость оборачивается несокрушимостью. – И счел нужным напомнить: – Коварный кентавр Несс погубил Геракла. Пропитал своей ядовитой кровью плащ ничего не подозревавшего победителя лернейских гидр и немейских львов. Отравленными пеленами обволакиваете государя…
Оттеняя преимущество вознесенности – царя ли, пророка ли – над осбруенной жеребятиной, Виссарион Петрович призвал из опоэтизированной античности еще и циклопа Полифема, людоедов-лестригонов:
– Вас послушать, так претендентов на трон надо по росту выбирать. Христос, в отличие от олимпийских богов, не пировал на заоблачных вершинах, не метал громы и молнии, не превосходил Понтия Пилата и Ирода физической мощью, не был телесно сложен Апполоном. Николай Александрович – не Зевс. Не Геракл. Но – немалым мужеством и превосходством над недалекими современниками надо обладать, чтобы не поддаться силам, тянущим страну на разрыв. Намеренно ниспослан России такой примиритель-костоправ!
Но мустаговая дикость била через край.
– Невелика честь состоять при бесцветном правителе!
– Вырубова с нами не поехала, осталась с блаженным Гришкой! Зачем ему тащиться за тридевять земель? Лучше в Петербурге отдохнет! С царскими дочками…
– Когда фрейлина Танеева выходила замуж за Вырубова, государыня убивалась по ней, как по самому близкому человеку!
– Мы австриякам-пруссакам верили, заключили с ними военный союз, Александр Первый заключил, а австрияки за усмирение русскими войсками Венгерского восстания, нам же подложили свинью, нарушили обещание не трогать восставших, перевешали сдавшихся бунтарей, а через семь лет, когда Россия воевала в Крыму и на Балканах с Турцией, Францией и Англией, Австрия двинула свою армию нам в тыл и потребовала отойти за реку Буг… Теперь по милости Аликс милуемся с ними!
Фредерикс запросил капитуляцию. Была вероятность: кентаврийцы уйдут. Ускачут. Но после шумных поздравлений с победой Дедюлин, как и вызвался, сменил Фредерикса. Стало ясно: ржущая клика Виссарион Петрович из загона не выпустит.
Серебрянная монетка, извлеченная Дедюлиным из потайного карманчика и подброшенная в воздух, подарила право первого хода Виссариону Петровичу. Без промедления он двинув самшитово-перламутровую армию в наступление и обратил будущего самоубийцу в черезклеточное (а, увы, не сквозьвагонное) бегство. Тот поживился единственным зазевавшимся белым пехотинцем. И возликовал:
– Пешки тоже не орешки!
– Цугцванг! – критически оценил положение Спиридович.
– Не шах, а «швах»! – подъялдыкнул Мосолов.
– «Швах» – это по-немецки или по-еврейски? – задал крайне волновавший его вопрос Бенкендорф, которому – при его родословной – о русскости, нерусскости и космополитизме правильней было речь не заводить. Но он разливался: – Неужто причина нашего странствия – еврейская свадьба? Посетив Иерусалим и Землю Обетованную, Григорий Ефимович обзавелся большим количеством знакомых нехристей…
Виссарион Петрович разметал позиции Дедюлина. Однако гости не уходили.
Мелькали за окном безвестные полустанки, сиротливо мокли под дождем впряженные в телеги не похожие на лощеных кентавров лошадки, скольжение многоколесного царского дворца по раскисшей хляби продолжалось.
Спиридович и Мосолов похохатывали:
– Царь хочет, чтоб его приближенные стали положительными. А мы не можем не изменять жене, не пить водку, не разгульничать!
Регент заговорил, апеллируя не к взявшим его в полон пегим мучителям, он обращался к шагренево распластанному лоскутку раздавленно-расплющенной, будто ресторанный «цыпленок табака», плоскости – втиснутой в квадрат географической карте, раскатанному глобусу:
– Не пойму: на чьей стороне фигуры, коим надлежит защищать короля? Спохватитесь, захотите вернуть на трон того, коего пытаетесь сбросить, да будет поздно! – Само выдохнулось: – Правила столкновения симметричных армий не предусматривают перекрас в другой цвет, перебежки из стана в стан – недопустимы! В какой – черной или белой – гвардии ни состоишь, предавать знамя нельзя, превратишься в ступень для восхождения к власти живущих под лозунгом: «Бей своих, чтоб чужие боялись!».
Ретивцы притихли. До них медленно доходило. Сейчас они, возможно, сочли бы за благо откланяться, но Мосолов попытался свести конфликт к ничьей:
– Глубокоуважаемый Виссарион Петрович! Ваше умение убеждать непревзойденно! Если побожитесь, что земля покоится на трех китах, отрекусь от заблуждения, что она кругла…
– Государыне не в Крым, а за границу надо ехать, там устранят ее недомогания, – озаботился Дедюлин.
– Восвояси ей надо убраться! – вставил непримиримый Спиридович.
Бенкендорф то ли жалел, то ли жалил:
– Пребывание в Наугайме не пошло государыне на пользу. В замке Фридберг сыро… Как на гуптвахте. Нас царь ведь не сошлет на гауптвахту за наши невинные прибаутки? – Он нарожничал: – Хочу досразиться с вами, Виссарион Петрович, практически.
«Поквитаться», – обнажил жажду и подоплеку реванша регент. И через «не могу» втянулся в третью партию. «Это я в цугцванге, – думал он. – Любой мой ход, любой шаг ведет к худшему».
Сквозь заволокший ристалище табачно-пороховой дым виднелся дом на взгорке, где томился под арестом оттесненный в глушь, потерявшийся средь мелькания черно-белых дней и ночей разлученный с войском король. В отличие от шекспировского Лира, изгнанника не донимали семейные размолвки, но канонада, раздававшаяся вдали, звучала все настойчивее. Скученное войско регента, спешившее на помощь узникам, не могло вырваться из занесенного снегом квадратика – одного из многих в сети параллелей и меридианов. Бенкендорф скручивал-стягивал терпящий бедствие гарнизон, обмолачивал его, вытаптывал биссекрисами слоновьих и лошадиных рейдов. Впору было скомандовать: «Финита!» и распустить дружину. Но улепетывать, сверкая ахиллесовой пятой протершегося носка, – означало: доставить большое удовольствие обергофмаршалу. Следовало противопоставить жиму бенкендорфовых тисков что-то простенькое...
Порывы ветра усилились. Горстка арьергардных пешек под началом не способного хладнокровно отдавать приказы офицера бесполезно толклась на тесном пятачке, не умея приблизиться к морозоустойчивому малахаю, нахлобученному на простуженный взгорок и обмотанному шарфом – климтовски-крапчатой поленницы. Регент поражался отваге своих солдат: «Утопающая ладья не булькнет: «Залатайте меня!», пешки не возрыдают: «Заступись, мамочка!», офицеры не малодушничают: «Вызволи, отец!».
Бенкендорф наваливался. «Если прибавить бревен и сделать поленницу выше (для этого государю придется превратиться в пильщика засохших лиственичных стволов), можно спрыгнуть из окна верхнего этажа на дровяной трамплин. И скатиться – по масляной поблескивающей краске испещренного снежиночными мазками холста. И достичь холодных, рябых, как у Айвазовского, волн с флибуствующей ладьей.
Виссарион Петрович на глазок измерил расстояние: добежать от изморозного Густава Климта до глянцевого Айвазовского мешали конвоиры, оцепившие дом и стрелявшие наперерез причалу: слом государственной махины перебаламутил верхи и низы, стража помыкала царем, царь не повелевал эскортом. Вызволенцам оставалось надеяться – лишь на Виссариона Петровича и его сына Петра.
Следуя по Пречистенке в храм Христа Спасителя, регент любовался усадьбой гусара-поэта Дениса Давыдова. Виссарион Петрович задумчиво (вместо клича: «Иду на вы!») продекламировал:
Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!..
Успех могло принести партизанство. Вчерне регент отрепетировал последовательность маневра, просившегося быть противопоставленным снедавшей соперника жажде быстрого наполеоновского успеха… И повел под узцы хроменького, без признаков окентавривания, коняшку к скоплению предвкушавших победу туповатых остолпов. Перемахнув через их кивера, лазутчик-конь сшиб застигнутого врасплох неприятельского ординарца.
Бенкендорфа не воспринял атаку всерьез.
Боясь обнажить подожженный бикфордов шнур, не теряя из виду брезжившую в порядках Бенкендорфа брешь, регент метнул запал, но оттягивал развязку промежуточными пробными прорывами – маня противника в игольное ушко засады. Бенкендорф не чуял подвоха.
Очень вовремя подоспела подмога – преданный государю человек: Василий Александрович Долгоруков. Он принес в сафьяновой обложке собственноручно писанное государыней на бумаге «верже» приглашение – отобедать с царской четой в вагоне-столовой. В списке званых значились все, кто находился в купе.
Мосолов преувеличенно обрадовался
– Я непрочь закусить!
Спиридович самонадеянно потирал руки:
– Уж мы отвелаем паштетика!
Долгоруков дрожал, простецкое его лицо осунулось, бакенбарды увяли вислыми собачьими ушами.
– Нынче видел сон … Будто меня и царя тащат на расстрел…
Василию Александровичу предстояла, по словам Распутина, гибель в Екатеринбурге. Регенту пришло на ум: если получится освободить из дома на взгорке царя, удастся спасти и Долгорукова!
Меню опьянило Бенкендорфа. Он прищелкивал языком (будто грыз кедровые орешки):
– Омары из Остенде! Фаршированная щука из Монхейма! Турбо в соусе! Шулюм из киргизского черного барана! Борщ с пампушками!
Под прикрытием кулинарной завесы коняшка вышиб из противничьего окопа неповортоливую туру. Виссарион Петрович, готовя миг решительной перегруппировки, обманно бросил к флангу жертвенного адьютанта – расслабленный, обуянный нетерпением обеда и военной виктории Бенкендорф позволил себе размашистость. Он готовился пировать:
– Вареники с вишней! Клубника! У меня разыгрался аппетит!
– У меня тоже, – молниеносно, истинно царственным («а сама так величава, выступает, будто пава») шествием ферзя регент поставил точку в выверенной схеме.
До пребывавшего в кураже Бенкендорфа еще не докатилось, а советчики-консультанты не решались разочаровать вожака. Прошла минута, прежде чем обер-гофмаршал осознал: победа упущена. И недоуменно обратился к Фредериксу:
– Владимир Борисович, что происходит? Виссарион Петрович сегодня в ударе. Вас разгромил, теперь меня?
Возможно, он хотел, чтоб его разубедили.
– Попросите, пусть вернет вам парочку пешек. Это ничего, это дозволяется. Виссарион Петрович мне ферзя вернул, – по старческому недомыслию (или все же с простодушной насмешкой?) брякнул тот.
«Бездарные и никчемные! – хотелось отбрить их Виссариону Петровичу. Он думал: если бы и в жизни столь же легко переиначивались поступки, отменялись состоявшиеся события, возвращались утраты…»
– Ваш черед? – обратился Виссарион Былеев к Мосолову.
Мосолов благоразумно отказался от поединка:
– Отложенное удовольствие не есть потерянное удовольствие. – Он так и сыпал банальностями: – Потом – значит никогда.
Заглянула и испросила позволения войти младшая, горбатенькая дочь Фредерикса Эмма, с ней вместе впорхнули подружки-фрейлины, среди них – хохотушка Евгения Казимировна Ивановская, наделенная – в отличие от молоденьких шумливых барышень и старовозрастных придворных пифий, то ли по причине ослепительной юности (недавно ей исполнилось семнадцать), то ли обаятельной миловидности – не обуродливающим, а, пожалуй, ласкающим окликом: «Евдошечка». Бывает, в поблекшей патине попадаются жемчужинки-исключения! Отец Евгении Казимировны – Казимир Иванович Ивановский, герой Японской войны, хорошо известный государю, сам привез и представил дочурку императрице.
Евгения Казимировна нараспев произнесла:
– Проезжаем по моей родной земле… Тут у папы поместье…
Мосолов, играя одновременно мускулами и жевлаками и пытаясь держаться непринужденно, промурлыкал:
– Коли вы отсюда родом… Некто Шимон Барский… Вам приходилось слышать о нем?
– Еще бы! Он – отец моей подруги Ревекки!
При этих словах Бенкендорф и Спиридович переглянулись. Дедюдин спросил:
– Где, вы говорите, Евгения Казимировна, этот Шимон проживает?
Девушка приникла к вечереющему окну:
– Городок Златополь… Тихое местечко…
– Еврейское местечко, – внес ясность Спиридович. – Ох, устроил нам развлечение Распутин!
Фредерикс, погромыхивая, принялся укладывать шахматные шеренги в предназначенные для них ячейки.
– Златополь? – присепетывал он. – Я об этом городке никогда не слышал.
Бенкендорф цедил:
– Зато Распутин очень даже в курсе…
– Я часто думаю о Григории Ефимовиче, – щебетала Евдошечка. – Скольких напастей можно избежать, если повиноваться пророкам!
Слова Евгении Казимировны вызвали дедюлинско-спиридовические ухмылки:
– Уметь предвидеть еще не значит уметь предотвращать!
– Его указания, рассылаемые министрам… По двадцать ошибок в каждом слове!
Евгения Казимировна возразила:
– Предвидение и правописание – разные виды знаний. Грамоту можно вызубрить, провидеть дано избранным. Инок Авель был не шибко образован, а сосчитал число отпущенных императору Павлу лет, назвал последнюю дату его жизни, предупредил: император примет смерть в день Софрония Иерусалимского. Сам император Павел встречался с призраком своего прадеда, Петра Великого, о чем оставил письменное не слишком складное свидетельство… Смертным не позволено общаться с умершими. Распутин общается!
В разговор вступила Эмма:
– С Григорием Ефимовичем можно часами говорить о Ветхом и Новом Завете. Он выпустил две книги. Одну я читала, она издана давно – «Житие опытного странника», а другая недавно: «Ангельский привет».
– Царица за него пишет! – выхаркнул Бенкендрф. – Всем известна высота ее умственных способностей. Она – доктор философии Кембриджского университета! Скоро и Распутину дадут профессорское звание и диплом!
Горбатенькая Эмма смотрела то на отца, то на регента в немой растерянности. Она дружила с дочерями государя, часто виделась с дочками Распутина Матреной и Варварой. Неприкрытое недоброжелательство утративших галантность мужчин поразило ее.
Евгения Казимировна тоже была удивлена. Она еще не успела привыкнуть к пронизывающей петербургские верхи враждебности.
– Не умеющие провидеть должны подчиняться прозревающим, зачем порочить пророков? – повторила Эмма.
Прослезившийся (возраст брал свое) Фредерикс гладил дочь по украшенной тоненьким золотым браслетиком руке. В его извиняющемся взгляде читалось: не обессудьте, глупышка выбалтывает то, о чем ей – в силу наивного возраста – не следует изливаться. Министру Двора явно не хотелось, чтоб присутствующие уверились: Распутина превозносят в доме Фредериксов – да еще в тех выражениях, какие воспроизвела дочь. Он стиснул ладошку Эммы и гримасничал, подавая знак: молчи!
Виссарион Петрович пришел на выручку старику и милой простушке, вспомнив фразу, вычитанную у Достоевского, который устами Свидригайлова оповестил: призраки, увиденные в воспаленном состоянии ума, не есть повод отрицать существование потустороннего мира, неболезненном зрению не дано проникнуть по ту сторону завесы.
Фредерикс закончил упрятывать резные фигуры. В общую могилу полегли кони, короли, пешки – заведомый финал любой военной кампании (да и мирной компании тоже). Позевывая (он и впрямь впадал в дрему?), дряхлый кавалерист изрек:
– Пойдем, Эмма. К обеду надо прихорошиться.
И, прихрамывая (затекла ступня), проковылял в коридор, не забыв восхвалить регента за шахматную мистерию.
Бенкендорф, не смирившийся с поражением на клетчатой равнине, хотел оставить за собой последнее слово:
– Григорий Ефимович скоро будет читать в подлиннике Гюго. А по-староголландски Нострадамуса…
Зубоскалы-скалозубы превращают в смех абсолютно все!
Впрочем, обер-гофмаршал Бенкендорф изрекал порой неглупые суждения:
– Околесицу сумевших войти в фавор слушают завороженно, а не кумир, будь хоть в тысячу раз умней, ни в чем никого не убедит! Беда, коль невнятицу, а то и заведомую дичь – тронувшихся рассудком или притворяющихся блаженными – нарекают истиной и сообразуют с ней государственную политику!
Дедюлин, тонким нюхом ушлого царедворца безошибочно уловив: диктат Бенкендорфа уже не абсолютен, перестал поддакивать и, обобщенно кивнув на прощанье, выломился в узкие двери. Мосолов, запамятовавший о провозглашенном час назад намерении заняться атлетизмом, тоже поворотил оглобли:
– Славно провели время, обменялись мнениями. – И заторопился: – Пора воздать должное гантелям…
Фрейлины упорхнули. Вместе пришедшие Спиридович и Бенкендорф вместе и удалились. Молчаливый Долгоруков покинул купе последним. Регент предупредил его, что трапезничать в вагон-столовую не придет.
Оставшись в одиночестве, Виссарион Былеев подергал фрамугу: недоставало неконюшного воздуха, но фортка была наглухо задраена – возможно, из соображений безопасности. Регент выглянул за подмогой в коридор, увидел все тех же кентавров и кобылиц и отказался от надежды обрести помощника.
В гаснущем окне то бежали, то еле двигались тонкие деревца. Маячили белые пятна мазанок. Стало быть, поезд мчал по Украине!
Огорчало: день прожит зряшно – пусто, безбожественно.
Регент извлек обернутую холстом икону, освободил от тряпиц и, держа перед собой в вытянутых руках, вгляделся в скорбно-просветленный лик Иоанна Предтечи. Казалось, казненный Креститель благословительно улыбается. Виссарион Петрович направил молитву – так сдувают с ладони тополиный или одуванчиковый пух – в Москву, в дом на Зубовском бульваре.
Сумбур в голове стихал, натяжение нервов ослабевало. Улеглось недовольство попутчиками. Снизошло: не напрасно длился раж – удалось противостоять опорочиванию государя. Прихлынула настигавшая много раз, но забывавшаяся при наслоении свежих событий убежденность: «Происходит то, что должно происходить, жизнь творится согласно намеченному плану. Наличие пророков – Распутина, Нострадамуса, инока Авеля, Кассандры подтверждает существование Высшей Воли. Господь потому заповедал не хлопотать о завтрашнем, что предосмыслил малейшую крупинку случающегося. Надо, непременно надо допытываться: чего требует от тебя Провидение, ибо каждый обязан участвовать в подталкивании бытия к лучшему. Но, пока есть Богом отмеченные, посвещенные в Его веления пастыри, ничто не грозит непреложности сущего – у реки по имени История есть русло и цель: родниковые и загрязненные потоки впадают в Океан Гармонии и Доброты и очищаются в светлых водах. Распутин вылечил Петеньку, исцеляет цесаревича и императрицу – и преуспевает в этом! В словесной и шахматной битвах (ни ту, ни другую – спасибо Иоанну Крестителю и Его Крестнику! – регент не прогиграл и себя не уронил) вновь проявилась обнадеживающая истина: невиляние, определенность воззрений находят поддержку свыше! Если бал правит непредсказуемость, происшествия скачут кентаврами по воле слепого жребия, и неважно, что штили сменяются бурями, а зимы – веснами: бытие лишается организующего созидательного начала!».
Пространство ближайших дней уже не казалось угнетающим: так яснеет горизонт после шторма.
Возблагодарив Спасителя, восславив Его за то, что в трудные мгновения ниспосылает подсказку, Виссарион Петрович обернул икону полотном и еще раз по волнам прозрачного воздуха (или сквозь них) направил благословение отбившемуся от рук сыну Петруше, оставшейся в Москве семье, после чего занялся отлаживанием «брегета», подаренного – еще в 1887 году! – за беспорочную службу на ниве Христовой Константином Петровичем Победоносцевым. Повращав ребристое колесико, вписанное в серебряную дужку, к которой крепилась массивная серебряная цепь, завел механизм на полуночное воспроизведение музыкального сигнала.
За окном сгущалась мгла. В небе проступали загадочные письмена созвездий. Регент не мог позволить себе смежить глаза. В четвертом вагоне, в обтянутом зеленым штапелем кабинете, государь изнемогал в борениях со своей нерешительностью. Наверняка под рукой лежала «Псалтирь» – постоянно перечитываемая и испещренная карандашными пометками: прежде, чем предпринять важный шаг, Николай Александрович сверяется с этой книгой.
«Ты, Висса, как никто необходим царю, – обязал Распутин регента на перроне. – Скоро огромное влияние в мире обретут, не без моей помощи, евреи. Сейчас они – презренная нация. Но сумеют переменить положение и заставят с собой считаться. Убеди государя прислушаться к тому, что скажет старый Шимон…».
Регент готовился, едва поезд затормозит, выйти на платформу и присоединиться к Николаю Александровичу.