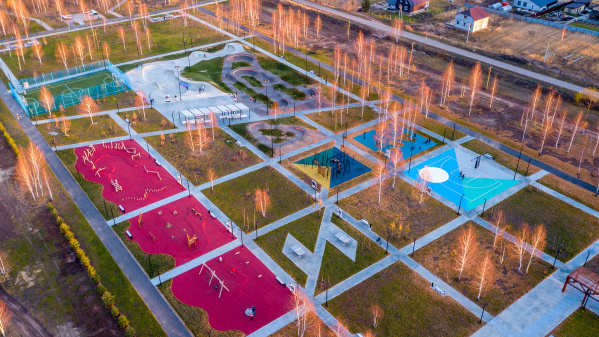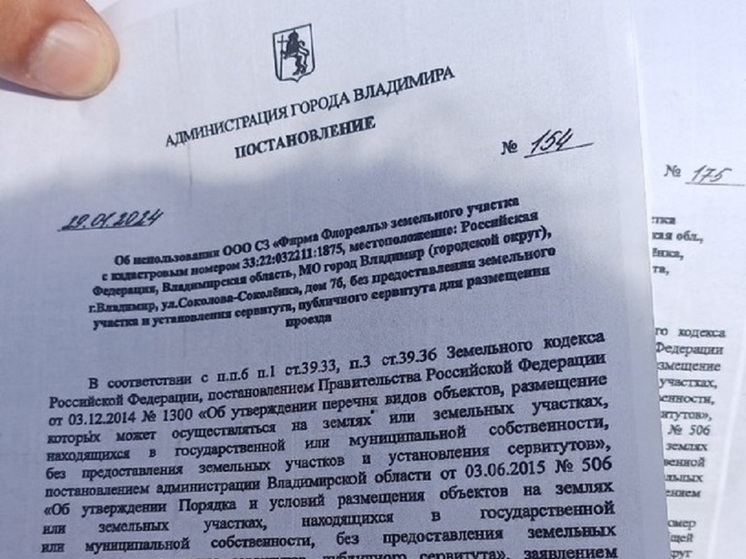Режиссер Михаил Калатозишвили и его дебют в игровом кино — картина “Дикое поле” — не раз заставили говорить о себе в уходящем году. Фильм получил награды за лучшую музыку и сценарий на “Кинотавре”, спецприз в программе “Горизонты” в Венеции и еще несколько Гран-при на фестивалях по всему миру: от Португалии до Марокко. А в минувший четверг “Дикое поле” стал обладателем премии российской кинопрессы “Белый слон” — как лучший фильм 2008 года.
“МК” встретился с Михаилом, чтобы поговорить о кино, русско-грузинском конфликте и его великом деде — режиссере Михаиле Калатозове, которому 28 декабря исполнилось бы 105 лет.
— Михаил Георгиевич, почему вы решили снимать фильм по сценарию покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова, который почти десять лет до этого пролежал на полке?
— Я просто прочитал сценарий и понял, что хочу его снимать. Мне странно, что он так долго пролежал на полке. Я-то о нем узнал в ноябре 2006 года и сразу начал готовиться к съемкам. А теперь слышу, что такой-то и такой-то хотели его снимать, но у них были какие-то сомнения. Это их проблемы, пусть они и ответят, почему сценарий так долго лежал без дела.
— Сегодня что, таких сценариев не пишут?
— Может, и пишут, но я их не вижу. А в сценарии Луцика и Саморядова меня сразу привлекло очень точное ощущение человека и его места в современном мире. В принципе главный герой фильма — абсолютно счастливый человек, потому что находится в правильном месте и занимается любимым делом. Он способен на два таких чувства, как любовь и сострадание, которые сегодня в дефиците.
Я часто слышу претензию, что кино сделано не в эстетике Луцика и Саморядова. Но у меня и не было такой цели. У них герои всегда сняты с близкого расстояния узкофокусной оптикой, отчего на экране выглядят былинными красавцами, немного гипертрофированными по сравнению с окружающей средой. Мы же, наоборот, хотели поместить в необъятный простор маленького человека, который через свои поступки становится для зрителей чуть ли не мифологическим героем.
Почти весь фильм “Дикое поле” снят 32-м объективом. Это оптика чуть шире человеческого глаза, отчего пространство кажется еще огромней, а человек в нем — еще ничтожней. Прошлое, будущее и настоящее — все сошлось в одной точке, в которой наш герой Митя — единственный носитель времени. Если он умрет, все остановится.
— Снимали в Казахстане, если не ошибаюсь?
— Да, мы поехали туда по фотографиям, которые сделал покойный оператор Андрей Жегалов, но снимали в итоге совершенно в другом месте. Когда я попал в Казахстан впервые, у меня было ощущение, что это край земли. Вокруг только холмы и пустыня. А в кино даже попали несколько кадров, на которых небо находится ниже горизонта. На месте съемок нет местных жителей, нет воды. Мы сами построили дом, наездили к нему дорогу, натянули веревку вместо проводов. Воду привозили в огромных бочках, жили в палатках, которые нам дал казахский МЧС. Из мебели в них стояли пара столов и лавок. От съемочной площадки до аула Аксай, где мы жили, — 40 минут езды, а ближайшая гостиница находилась и вовсе в 300 км.
— Говорят, что из-за “Дикого поля” у вас вышел какой-то конфликт с организаторами “Кинотавра”…
— Да не было никакого конфликта. Я показал кино, пришел на пресс-конференцию и сразу уехал. Я и не намеревался до конца оставаться на фестивале. А из этого потом раздули ваши коллеги…
Доволен ли я тем, как прошел “Кинотавр”? С одной стороны, да. Картину заметили, стали о ней говорить. С другой — если “Кинотавр” когда-нибудь станет фестивалем, который влияет на дальнейшую судьбу картины, тогда мне будет более понятен его смысл. Сейчас же это достаточно замкнутый круг кинематографистов. Более того, “Кинотавр” может даже навредить фильму, потому что есть фестивали, которые берут в конкурс только те картины, которые еще нигде не были показаны.
— Но “Кинотавр” же не помешал попасть “Дикому полю” в программу Венецианского кинофестиваля.
— Попасть попал, но главный отборщик фестиваля Марко Мюллер говорит, что фильм не вошел в основной конкурс, потому что был показан на “Кинотавре”. С другой стороны, он же признался, что два русских фильма в конкурс точно бы не взял. Конечно, это не официальное заявление, в открытую он в подобном никогда не признается. В любом случае, я думаю, Венецианский кинофестиваль в этом году был для русского кино довольно успешным. Герман получил в конкурсе два приза, нашу картину отметили.
— Есть разница в том, как реагируют на ваш фильм зрители за рубежом и в России?
— В Германии, Италии, Португалии, Марокко, Франции — везде, где мы показывали “Дикое поле”, люди в кинотеатре не говорили по мобильному телефону. А на “Кинотавре” я вышел из зала через десять минут, потому что все это время передо мной сидел человек и беспрерывно говорил по телефону. Вот зачем? Встань ты и выйди — всем же лучше будет. А так реагируют на кино примерно одинаково, что в России, что за ее пределами.
— На фестивалях вас представляют как русского режиссера или грузинского?
— Как русского. Я родился в Тбилиси, но с 13 лет живу в Москве. И из своих трех картин две снял в России и только одну в Грузии. Здесь я живу, работаю. Да, я грузин по национальности, но я русский режиссер.
— За границей еще говорят о том августовском кошмаре, который у нас называют “конфликтом в Южной Осетии”?
— Сейчас нет, но когда это только началось, я был в Венеции, и тогда все иностранные корреспонденты меня об этом спрашивали. Российские же не задавали на эту тему ни одного вопроса, как будто никакого конфликта нет. То, что произошло, — эта такая глупость… Глупость, совершенная по отношению к Южной Осетии, Грузии и России. Цепочка совершенно не понятных для меня поступков.
— Наверняка у вас в Грузии осталось много близких.
— Мой сын за 4 дня до начала войны уехал на каникулы в Тбилиси. Моя сестра там была в это время, моя мама. Ничто же не предвещало войны. Для людей в Тбилиси было фантастической новостью то, что в Цхинвали начались какие-то беспорядки. Я не хочу в этом разбираться: как все начиналось и как происходило. Знаю только, что случившееся в Цхинвали, чего бы мы тут ни говорили, это грех.
— Насколько версии происходящего, доносимые ТВ разных стран, отличались от реального положения дел?
— Врали все. Врали совершенно усердным образом. Ни слова правды ниоткуда не говорилось. Я даже не хочу оценивать, кто в этом смысле обладатель пальмы первенства, потому что все это было за гранью добра и зла. Да, Россия вела на территории Южной Осетии миротворческую деятельность. Но у меня один простой вопрос: что мешало миротворцам остановиться на границе после того, как они освободили Цхинвали? И сказать: “Посмотрите, что происходит!” А с Саакашвили пусть бы разбирались те, кто его выбрал. Это была бы гораздо более выгодная позиция для России. Зачем надо было идти дальше? В любом случае, самая большая трагедия в том, что погибли люди со всех сторон и ничего хорошего никому этот конфликт не принес.
— Ухудшились ли отношения между простыми россиянами и грузинами?
— Они не могли остаться прежними и с той, и с другой стороны. Теперь многое зависит от граждан двух стран, от их высказанной позиции.
— А ваша позиция какова?
— Есть географическая, политическая и, если хотите, богом данная действительность — соседство России и Грузии. К ней надо относиться как к некой данности и понимать, что отделить нас друг от друга гораздо сложнее, чем жить вместе. Я уже не говорю о том, что Россия и Грузия — православные страны. И общего между нашими народами гораздо больше, чем поводов для разобщения. Была Российская империя, в ней жили грузины. Они были равноправными членами общества, строили карьеру и свою жизнь, как умели. Многие даже русифицировали свои фамилии, чтобы было легче общаться. Например, мой дедушка, который родился до революции. А до дедушки это сделал его отец, у которого были свои дела в Петербурге. И обращение “Калатозов” было гораздо удобнее, чем “Калатозишвили”. Мы все чувствовали себя частью одного русского пространства. Это же не просто границы, это некое ощущение внутри тебя.
— Вы хорошо помните своего дедушку, знаменитого режиссера Михаила Калатозова?
— Хорошо. Мне было 14, когда он умер. Последние лет пять мы часто виделись. Я приезжал к нему летом на каникулы в Москву. В 11 лет он меня научил водить машину — черную “Волгу Газ-21”. Когда мы ездили на ней по улицам, милиционеры инстинктивно тянули руку к козырьку, потом видели, что на машине частные номера, и резко ее убирали. Это было еще в то время, когда на таких автомобилях в основном разъезжали правительственные чиновники.
Вкус алкоголя впервые я попробовал тоже с дедушкой. Это всего лишь было мороженое, которое он приготовил, пропитанное разным алкоголем. Но мне хватило: я съел свой пломбир и стал конкретно пьяным.
— Дедушка любил готовить?
— Скорее нет, но завтрак, обед и ужин в его доме всегда превращался в ритуал. По-особенному сервировался стол: со скатертью, салфетками, приборами. И все мы, приезжая к нему в гости, подчинялись этим правилам. В остальное время он жил один, разве только у него была экономка, которая помогала по хозяйству.
— Михаил Константинович брал вас с собой на “Мосфильм”?
— Последний раз я приезжал к нему на “Мосфильм”, когда мне было лет 12. Тогда я не особо обращал внимание на то, кто его окружает, какие слова говорит. Это потом я уже узнал, со сколькими проблемами ему пришлось столкнуться.
Хрущев сказал про фильм “Летят журавли”: “Мне фильм не нравится, но пусть советский народ его посмотрит”. И только благодаря зрительскому успеху и во многом Клоду Лелушу эта картина попала на Каннский кинофестиваль.
Другой фильм Калатозова, “Неотправленное письмо”, совсем заклевали, объявили ненужным и формалистическим. Зато сегодня “…письмо” выдержало уже второе переиздание на DVD в Америке, где картина тоже в свое время была под запретом. Для Америки его открыли Френсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, которые добились выхода фильма в Штатах в 1992 году. Коппола не раз пересматривал “Неотправленное письмо” перед съемками “Апокалипсиса сегодня”, учился у Калатозова снимать пожары.
— Вы с дедушкой много говорили о кино?
— Нет, мало. Зато у него в гостях я впервые услышал музыку к фильму Клода Лелуша “Мужчина и женщина”. Дедушка вообще очень любил музыку. У него дома стояла хорошая аппаратура и была большая коллекция пластинок, которые сейчас хранятся у меня. В этой коллекции много уникальных на сегодняшний день изданий. К дедушке часто приходили друзья, коллеги. К концу жизни он готовился снимать кино о нейтронном ускорителе, поэтому к нему приходило много физиков. Даже велись записи их разговоров. Еще дедушка любил дарить мне подарки. В основном пластинки и одежду, которую привозил из-за границы: ботинки, куртки, рубашки. Один раз меня даже попытались в Тбилиси раздеть на улице, так модно я выглядел. Правда, одежду я отстоял. (Смеется.)
— Вы можете назвать Михаила Калатозова своим любимым режиссером?
— Когда меня просят составить список любимых режиссеров, я его не называю. Может, это какой-то комплекс, оттого что он мой родственник. Но я абсолютно четко понимаю, что он действительно один из великих режиссеров. Впервые я осознал это во ВГИКе, когда посмотрел на него глазами студента. Когда оценил реакцию людей, которые вообще его не знали, но смотрели его фильмы.
— Выходит, любовь к кино у вас в семье передается по наследству?
— Да, у нас это наследственная болезнь. Мне было полтора года, когда я первый раз оказался на съемках, и каждый следующий год я бывал либо в экспедициях, либо на студии. Мой отец был оператором и брал меня с собой на съемки. Так что я с детства знал, что буду заниматься кино. Никогда не хотел быть ни пожарным, ни космонавтом. Сейчас мой сын учится во ВГИКе на четвертом курсе режиссерского факультета. Дочка — в театральном институте на актерском факультете. Так что болезнь продолжается.