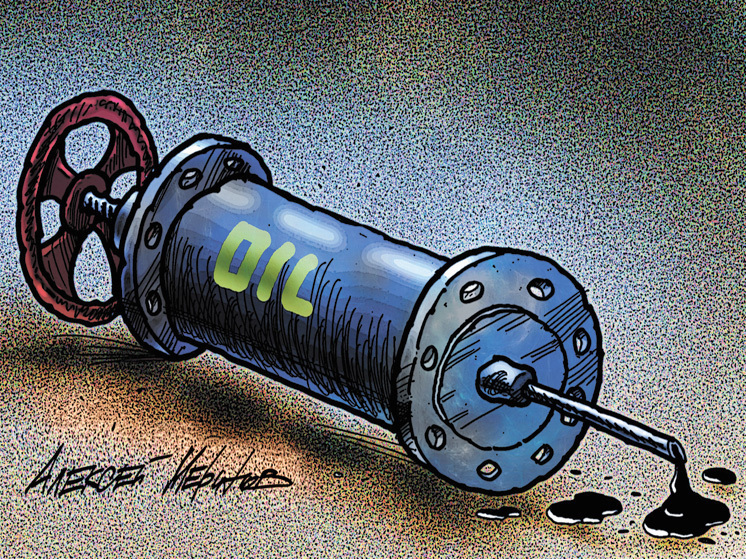Знающим Болгарию не надо живописать аквамариновое море между Бургасом и Несебром, камышовые заводи вдоль экзотической реки Ропотамо или растолковывать, чем знаменит крохотный городок Габрово.
Уж не помню, во время какой по счету юмористической ассамблеи, ближе к вечеру, когда солнце садилось и стихли оркестры, а участники торжественного парада смеха разбрелись по ресторанчикам и гостиничным номерам, я зашел в бар.
— Видели? Шествие вокруг Дворца улыбки? Медведя на цепи? Вернисаж карикатур? Это я, я организовал и придумал, — устремился ко мне единственный посетитель — скромно одетый мужчина в грубоватых очках.
Я кивнул.
— Коста… Коста Цонев… — он тянул веснушчатую руку.
На верхней его губе поблескивали бисеринки пота. Завитки черных волос прилипли ко лбу, нос лоснился… Духота на улице и впрямь выжимала из организма соки. Смуглое лицо хвастуна кривило рассеянно-вымученное выражение, мне оно почему-то представилось гримасой страдания. Взгляд за толстыми стеклами линз был трудноуловим. Непонятно, в связи с чем в памяти всплыла картинка: при въезде в Габрово (добирался я туда на машине старенького главного редактора сатирической газеты “Стършел” Христо Пелитева), посреди мостовой, в глаза бросилась окровавленная шкурка раздавленного колесами кота. Если учесть, что бессменным символом и эмблемой габровских фестивалей на веки вечные был объявлен Кот, предзнаменование не сулило хорошего.
Коста извлек из мятой пачки сигарету “Родопи”, щелкнул зажигалкой и продолжил рассказ. Да, подлинный виновник и инициатор творящейся вокруг праздничной коловерти и бьющего через край ликования — это он. Как это получилось? Трудился в габровской молодежной газете, пришел в горком партии, положил на стол руководителя листок. Руководитель прочитал, почесал в затылке и отправил начинающего журналиста проспаться. Тот, однако, и на трезвую голову возобновил настырное околачивание порогов власти. В итоге бонза посочувствовал юнцу, однако спросил: “Что думают по этому поводу классики марксизма?” Утром Коста явился на прием к будущему покровителю (как выяснилось, не лишенному чутья, ибо идея воплотилась) с подходящей цитатой. Позже, когда ее собирались начертать белой краской на кумачовом полотнище, у Косты попросили точную сноску: какой том, какая страница? Тут и вскрылся подлог, чудовищный обман. Да, Коста сам (вместо основоположников!) придумал несуществующую цитату. Но отступать было некуда: газеты звонили о неслыханной инициативе габровцев, были разосланы приглашения высоким зарубежным деятелям и рядовым шутникам, пришло приветствие участникам форума от самого Тодора Живкова.
Коста к тому же сумел раздобыть деньги на воплощение затеи.
— Что значит — основать Всемирную столицу смеха? — погружал меня в историю своего триумфа Коста. — Это туризм, то есть приток средств… И министр финансов меня понял.
Чем больше говорил мой случайный собеседник, чем больше вливал в себя и в меня сливовой и грушевой ракии, чем сильнее воодушевлялся, тем меньше я ему верил. Есть люди, которым нравится рисоваться, приписывать себе заслуги, множить мнимые подвиги, напускать ложную значимость. Но внимать краснобаю было интересно. Да и стоит ли вдаваться в детали? Я ведь прибыл на праздник. Настроение набирало опьяняюще-приподнятую силу.
Начинало темнеть, когда, покинув подружившее нас питейное заведение, мы явились на официальный ужин. Потчевали здесь отменно, но после трапезы мы все равно навестили кафе под открытым небом… А затем — еще один бар…
Через несколько лет мне вновь довелось навестить Болгарию. До того от общих знакомых я получал от Косты приветы. И вот теперь торжественно одетый основоположник Габровского движения встречал меня в аэропорту. Он уже перебрался жить в Софию, перевез сюда семью. Мы поспешили в газету, где мне вручили награду — лауреатский диплом и пухлый конверт. После недолгих официальных посиделок в кабинете главного редактора мы с Костой вырвались на свободу и устремились… разумеется, в бар. Вновь, как и во время первой нашей встречи, я слушал монолог Косты, опять Коста витийствовал, пил кофе, перечислял свои заслуги… Рассмеявшись, он поведал, как незадолго до моего визита в редакции побывал писатель из Монголии, тоже лауреат:
— В посольстве ему не дали переводчика. А ему же выступать с благодарственной речью. Я говорю: напиши, что собираешься сказать, по-русски, но не сбивайся, шпарь по тексту. И он произносил по-монгольски, а я по-болгарски. И все качали головами и повторяли: “Какой умный у нас Коста, сколько языков он знает!”
Наша одиссея закончилась не столь благополучно, как в Габрово. Когда на рассвете мы вывалились на улицу из очередной “механы” (болгарское наименование закусочной), куда в итоге долгих странствий по рюмочным и забегаловкам забрели, Коста сел на бордюр тротуара и сказал, что категорически не двинется с места. Я остановил подвернувшееся такси, вместе с водителем погрузил слабо сопротивлявшегося гуляку в машину. Пришлось сделаться переводчиком уже мне. В процессе блуждания по лабиринтам пробуждавшейся болгарской столицы все же удалось вытрясти из задремавшего Косты название улицы и номер его дома.
Следующим утром нам предстояло убыть на Золотые Пески. Отель “Интернационал”, именно так, по-революционному строго звучало название (в России научились смягчать двусмысленную прямолинейность соответствующим знаком в конце — “Националь”), стоял под сенью гор и прямо возле моря. Всю дорогу Коста сопел, кряхтел, в конце концов, не выдержав, велел шоферу притормозить возле пивной, где залпом осушил кружку пенного нектара. Вернувшись в машину, бросил мне виновато: “На реанимацию”, таким образом объясняя, что иначе отдал бы концы.
Номер в отеле меня ждал самый лучший, “люксовый”. “Как футбольное поле”, — осклабился Коста. Я остался невозмутим, мысленно огрызнувшись: “Если почести оказывают, значит, они заслужены”. Оставив вещи в апартаментах (у Косты они, понятное дело, оказались значительно скромнее), мы двинули… Нет, не на пляж. Коста тупо твердил: время обеденное. Он обязан следовать утвержденной программе. “У тебя ведь официальный визит”. Молча мы спустились в ресторан, где на веранде ломился от яств сервированный стол. Над белой скатертью высились блюда с аппетитными закусками и вазы с фруктами, туманно поблескивали бутылки затейливых форм. Собравшиеся официальные и полуофициальные лица (директор варьете, администратор гостиничного комплекса, инструкторы и заведующие отделами горкома партии), а также метрдотель и официанты — встречали Косту как дорогого друга. Из-за рояля поднялась и пошла навстречу эксцентрично наряженная дама. На поясе у нее болталась позвякивающая цепь, пятнистые сапоги “под леопарда” бренчали шпорами. Коста поцеловал ей руку.
— Для нашего гостя… Сыграй, — попросил он сперва по-болгарски, а потом по-русски.
За столом он болтал без умолку. Хотелось на пляж — растянуться на полотенце и плавать в теплых волнах, он зачем-то намеренно тянул, длил дипломатическую процедуру… Провозглашал тост за тостом, здравицу за здравицей. Под конец нетвердыми шагами направился к пианистке и бухнулся перед ней на колени. После чего пополз в соседний зал. В дверной проем было видно: сидевшие там туристы повскакивали с мест и фотографируют, провожая паяца громким смехом. Официальные деятели, изнывавшие за моим столом, хмурились, кое-кто из них стал пунцовым. Я ощущал неловкость. И тихо закипал. Кто он такой, чтобы позволять себе подобное? В газете, где служил, к нему относились снисходительно. Я успел это уловить. В Москве, в болгарском посольстве, где я получал напутствие перед поездкой, с пренебрежением уточняли: “Какой Цонев? Артист? Не артист? Кто же? Писатель? Что он написал?” Возмущение, видимо, было написано на моем лице. Пианистка подошла и шепнула мне на ухо:
— Он хороший… Он любит дарить праздники…
Сам “даритель” и виновник возникшего балагана тем временем подозвал официанток, они сгрудились вокруг него (в буквальном смысле слова, поскольку бюсты у всех были превосходные), обнимая и чмокая их ножки, он вкручивал им что-то почти интимное. До меня донеслось:
— Жена пилит: сколько можно пить, а вы хорошие, сами предлагаете ракийку…
Фавном он вернулся на веранду, наполнил рюмку и как ни в чем не бывало хотел со мной чокнуться. Я отвернулся.
Искупавшись, я любовался лучами заходившего солнца. Тут и возник в его отблесках Коста. В руках он держал ополовиненную бутылку “гроздовой”, два пластмассовых стаканчика и два спелых абрикоса. Я не мог не рассмеяться, так комично он морщил нос.
— Когда принимал монгола, — сказал Коста, — отправились праздновать его успех. Заиграл оркестр. И знаешь, что сказал монгол? “Музыка — тоже тишина!”
Он наполнил стаканчики. И застыл, задумчиво глядя на море. Надо было отдать ему должное: он умел угадывать мысли. И исполнять мечты. В темноте мы прикончили принесенную им “гроздову” и добавили сливовой ракии, ею торговали в розлив тут же, в киоске на пляже. Заглянули с инспекцией в гостиничный бар. И перекочевали в следующий, у подножия горы. Привычная карусель начинала вращение... И опять к утру Коста не мог передвигать ноги, я волок его на себе. Я журил Косту (хотя мог бы адресовать те же упреки себе), он заплетающимся языком повторял свой любимый анекдот: человек обращается к прохожим с просьбой объяснить, где находится и куда попал. Прохожие растолковывают: улица такая-то, дом номер такой-то… Человек восклицает: “К черту подробности! В каком городе я нахожусь?”
Утром просунувший голову в мою незапертую дверь Коста застал меня сидящим над открытым блокнотом. Хотелось записать несколько фраз, услышанных накануне. Коста несмело спросил:
— Немножко пива? На реанимацию?
Я кивнул, но продолжал карябать. Коста с понимающим видом и крадучись, на цыпочках, достиг кресла. Посидел, соблюдая тишину. Долго вытерпеть не смог и достал из мини-бара бутылочку. Отвинтив ей голову, он забыл о намерении хранить молчание:
— Однажды я решил засесть за работу. Говорю Снежане: “Запрусь и буду писать, не мешай”. Прошло пятнадцать минут, она стучится: “Коста, милый, я принесла пирожок. Поешь”. Проходит еще двадцать минут, снова стучит: “Коста, я сварила кофе. Крепкий, как ты любишь”. Через час опять: “Коста, что с тобой? Как себя чувствуешь? Почему не слышно твоей машинки?”
На песчаном пляже, куда мы выползли, Коста расстелил полотенца и вступил в диалог с загоравшим поблизости мужчиной. О чем он его спросил? Понятное дело — не хочет ли тот составить компанию? Мужчина не отказался. И выглядел польщенным. Коста принес запотевшие стаканы с пивом. И три рюмки абрикосовой. За которыми последовали по две рюмки коньяка на каждого. Ранний обед под тентом вблизи моря завершился мастикой. Прогулка по набережной с остановками возле киосков, торговавших душистым белым вином, принесла эффект парения над землей…
Мимо нас, по тянущимся вдоль кромки пляжа дорожкам, катили тандемы велосипедистов.
— Если бы многоместные велосипеды выпускали в России, то сделали бы их на троих, — мечтательно сказал Коста.
Мы вновь утюжили набережную — от киоска к киоску, от стойки к стойке. Коста балагурил:
— Пишу в графе “семейное положение” — “невыносимое”, а в отделе кадров не понимают, требуют, чтобы указал: есть ли жена и сколько детей. Я говорю: “Если бы не было жены и детей, разве я бы писал так образно?”
Я улыбался. Но с каждой новой дозой спиртного все сдержаннее. Завтра, думал я, будет по-моему. Не дам ему шанса. Хватит поощрять дурную привычку и укоренившуюся вредную традицию. Он же, не ведая о грядущем тяжком испытании, не унимался:
— Снежана работала инструктором в горкоме комсомола. Ну, сидит симпатичная пухлая девочка… Я ее потреплю по щеке, подарю шоколадку… И вот, это было накануне Нового года, я ее поздравил, и она спрашивает: “Где встречаешь Новый год?” Я говорю: “Дома, а ты? Если хочешь, можем встретить вместе”. И она пришла. А потом я ей говорю: “Кем хочешь быть — моей женой или любовницей?” Она отвечает: “Как тебе больше нравится”. Мог я, по-твоему, на ней не жениться?
Я вновь еле довел его до отеля.
На следующий день, несмотря на мои благие намерения, угомонить его опять не удалось. Под вечер мы оказались в ресторанчике “Кошара”: в ущелье, на травянистой равнине, за плетеной изгородью, стилизованной под овечий загон, прятались легкие столики, играл оркестр в национальных одеждах.
“Кошара” была переполнена. За длинным столом праздновали — сперва мы подумали, свадьбу, но потом поняли: проводы в армию цыгана. Юный новобранец сам встречал гостей. В парчовой рубахе, с привешенным на грудь игрушечным зайцем и купюрой в двадцать левов, пришитой на месте правого погона, он и нам предложил освежиться самогоном из большой бутыли, но мы лишь поздравили его и сели обособленно, в уголку. Благодаря тому, что Косту и здесь знали, за наш столик долго никого не подсаживали. Но в конце концов метрдотель, извинившись, привел на свободные места семейную чету. Услышав их речь, Коста посмурнел:
— Мой друг, писатель из Венгрии, отказывается ездить в Германию. Его родные погибли в концлагере… Он считает, они с тех пор не изменились.
Немцы, не понимая нашей беседы, ощущали: мы говорим о них.
— Между прочим, — сказал Коста и воздел указательный палец к небу, на котором начали выступать мелкие звездочки. — Между прочим… Были поэты, которые славили фашизм. Были скульпторы и живописцы… Были режиссеры и фотографы. Но не было юмористов. Знаешь, кто это сказал? Мой друг Уильям Сароян…
Он помолчал и снова заговорил:
— Мой рассказ будет называться “Свой”. Представь, человека посадили в яму. Сверху решетка. Он кричал, молил о помощи. И охранник бросил ему хлеб. И он этого охранника запомнил и стал выделять и отличать среди других. Глядя вверх, стал узнавать подметки его сапог. Какими гвоздями они подкованы. И когда его вернули в барак, он стал всем говорить, что в охране есть “свой”. Заключенные готовили побег. И подгадали, чтоб он пришелся на ту ночь, когда дежурит этот охранник. И когда они побежали, этот охранник перестрелял их всех…
Я смотрел на Косту остолбенело. Он потупился.
— Не веришь, что напишу? Верно, давно ничего не могу из себя выжать. Но этот рассказ… Он меня преследует…
Лавируя между столиками, к нам приближался мужчина с корзиной цветов. На нем были потертый черный костюм в полосочку и красная феска с болтавшейся кисточкой. Коста просиял. В корзине лежали обсыпанные капельками воды мелкие розочки алого, желтого и бордового оттенков. Немец усиленно отворачивался и упорно не замечал вставшего возле нашего столика торговца. Вывернутая шея бедняги изогнулась затейливой петлей, я даже побоялся, как бы ей не затянуться в смертельный узел, однажды я видел такой на витрине, где был выставлен рождественский гусь. Коста, мурлыкая от удовольствия, выбрал три бордовых цветка и преподнес их даме. Она смутилась и зарделась. Немец облегченно вздохнул, лишь когда Коста отдал торговцу деньги. И больше не выворачивал шею, а смотрел прямо на нас. Дружный семейный дуэт галдел благодарно и гортанно. По-гусиному.
Коста с довольным видом подмигнул:
— Нанесем-ка визит в самую простенькую механу… Где веселятся самые обычные болгары…
По дороге он говорил:
— Напишу этот рассказ. Во что бы то ни стало! Помнишь, у Гашека… Когда Швейк врывается во вражеский окоп и кричит: “Не стреляйте, здесь люди!”? Даю слово, что напишу.
Дни сливались в сплошной, неразличимо яркий сон. Мы дремали на пляже, ненадолго уединялись в номерах, чтобы принять душ и переодеться, и снова продолжали странствовать из ресторана в ресторан, от киоска к киоску. Воротники наших сорочек стали черными. Брюки смялись в гармошку.
— В командировке считают не деньги, а чистые рубашки, — изрекал Коста. И замечал: — Одежда изнашивается вместе с жизнью…
Ах, как замечательно говорил мой друг! Какие парадоксы он отчубучивал!
— Каждый народ имеет тех евреев, которых заслуживает!
— На уборщице никто не женится, но невестку вполне можно заставить мыть пол.
— Я патриот Габрова. Но и шопский юмор очень неплох. Оцени: “Даже если японец бежит навстречу, мне все равно его не догнать!” Нет, шопы умеют не только готовить салаты…
Впервые я задумался: писатель — тот, кто водит пером по бумаге, или тот, кто не только словом? но и своим примером объясняет и открывает то, чего без его помощи не понять, не уразуметь?
Лишь однажды мы чуть не поссорились — когда я заметил, что он посреди веселья вдруг помрачнел. Я сказал ему об этом. Он почти закричал:
— Все тебе нужно знать! Дурацкая привычка! Сиди и тоже делай вид, что тебе хорошо!
Но тут же устыдился взрыва эмоций и притворился, будто набросился на меня в шутку, а я сделал вид, что поверил ему. Как бы извиняясь, он вернулся к неприятной заминке:
— Я дал себе слово не повышать голос. Так и сказал Снежане: если хочешь — продолжай на меня покрикивать, а я не буду. Потому что, знаешь, если мы будем кричать друг на друга, соседи скажут: они кричат. А теперь они говорят: она на него кричит. И она меня поняла. И мы больше не ругаемся.
Уже на финише нашего многодневного марафона, пьяненькие, но не желавшие сдаваться и готовые продолжать яростное испытание собственных сил, мы вышли из отеля и увидели возле автобуса группу уезжавших немцев. Они фотографировались на память. В центре в картинной позе стояла немочка, одаренная Костой цветами. Долговязый муж с длинной шеей застыл рядом. Фотограф, встав напротив, навел на них объектив… И тут Коста подскочил к немке, бухнулся перед ней на колени и обнял ее ноги, громогласно объявив, что такое фото принесет мадам гораздо больше удовольствия. Туристы онемели. Но засмеялась немка, потом ее муж, потом захохотала вся загорелая ватага и стала щелкать аппаратами, запечатлевая Косту и его избранницу, а Коста самозабвенно целовал ей руки. Польщенная дамочка хотела непременно записать его адрес и обещала прислать снимок. Коста, кокетливо жеманясь, продиктовал координаты.
В Софию мы вернулись дождливым днем. Коста собирался отвезти меня в отель, но неожиданно передумал и пригласил к себе домой.
— Ничему не удивляйся, — сказал он.
Я не слишком озаботился предупреждением. И не ожидал, что младшую дочь Коста прикатит в гостиную в кресле на колесиках. Коста не смотрел на меня, когда говорил:
— Все будет хорошо. Старшенькая любит сестренку. И будет о ней всегда заботиться.
Снежана накормила нас ужином и подарила мне свитер: теплых вещей я с собой не захватил, а на улице похолодало. Коста отправился меня проводить. В воздухе витали ароматы кулинарных специй, я почти слышал вздохи старых деревьев, которые шумели по обочинам улиц. Мы заглянули в ближайший бар, чтобы пропустить прощальную рюмку.
— Нашей семье немного не везет, — сказал Коста, слизывая капельки пота с верхней губы, — и с этим ничего не поделаешь. Все не очень складывается… Младший брат, строитель, взялся реставрировать дворец. Где стоит старинный дворец? Правильно, рядом с новой резиденцией. Ездил в министерство, просил показать место, где проложен кабель. Все пожимали плечами. Он же не мог начинать копать на свой страх и риск. Рабочие стали возмущаться: зачем нас нанял, мы хотим зарабатывать, а дело стоит… Я звонил ему, предлагал: “Братик, давай встретимся, поговорим”. Он отвечал: “Братик, мне даже умереть некогда”. Но это он зря сказал. Ему был тридцать один…
Я молчал, Коста закурил, но забытая сигарета так и дымила на краю пепельницы.
— Езжу на кладбище. Возьму бутылочку… “Вот, — говорю, — братик, ты должен приезжать ко мне как к старшему за советом, а приезжаю я. Выпей”, — и выливаю половину на могилу. Обо всем с ним калякаю: “У меня вот какая ситуация. Что посоветуешь?” И он помогает…
Я сказал:
— Дай слово, что напишешь… Рассказ. Об охраннике.
Коста кивнул:
— Обязательно.
Через полгода я получил конверт с болгарской маркой. Смутное предощущение шевельнулось в груди. Я ощупал бумажный четырехугольник и надорвал по краю. Из щелочки выпала небольшая, размером с карманный календарик, цветная фотография: Коста в обнимку с улыбающейся немкой. На обратной стороне рукой Косты было нацарапано: “Известный писатель в обнимку с Музой”. Обещанного рассказа, разумеется, приложено не было. На карточке Коста улыбался во всю ширину рта.