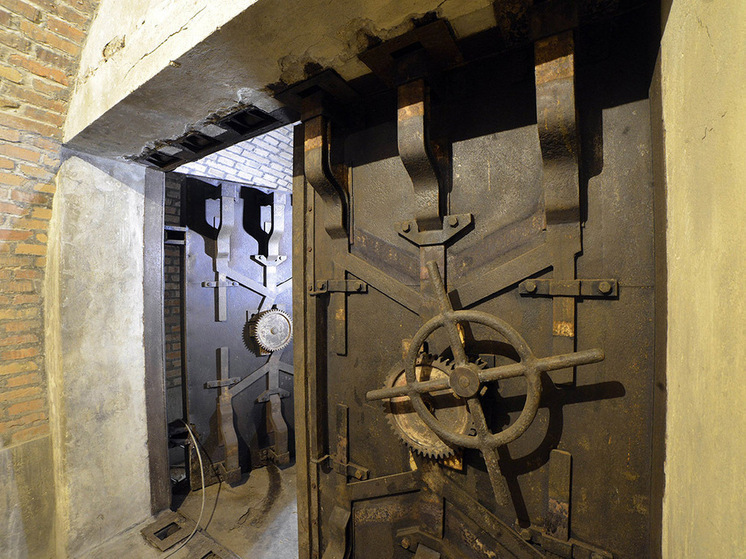уходил и вновь маячил в отдаленье...”
В.Маяковский, “Владимир Ильич Ленин”
VII. Нас не надо жалеть — ведь и мы никого не жалели!
Артур Кестлер в романе “Слепящая тьма” дал свою версию того, почему несгибаемая часть гвардии большевизма в 1937 году, выступая на судебных процессах, признавала обвинения.
Сам Кестлер был человеком неординарным. В 1931 году он на дирижабле “Граф Цеппелин” совершил полет к Северному полюсу. Год жил в СССР.
Роман Кестлер начал в сентябре 1938 года, а закончил в апреле 1940-го. Рукопись его книги, уже набранная на немецком языке, загадочно исчезла. Но, к счастью, уже был сделан ее английский перевод. По-английски его назвали “Мрак в ночи”, по-французски — “Ноль и бесконечность”.
В чем-то роман Кестлера похож на “Новое назначение” А.Бека — в обоих романах литературное произведение опережало научный анализ.
1. Гвозди бы делать из этих людей...
В центре романа арест, допрос, признание, выступление на суде и расстрел Николая Рубашова — члена ЦК партии, народного комиссара, командира Второй бригады Народной армии, награжденного орденом Революции. За придуманными Кестлером названиями легко угадать реальность.
У Рубашова нет ни семьи, ни детей. У него только Партия и Революция.
Кестлер сразу “задает” исходное: тюрьма для Рубашова не новость. Он “проходил” ее и до революции, и потом, руководя подпольным движением в зарубежных странах. Он знает о тюрьме все. Что надо многие часы ходить по камере. Знает и как ходить: у окна повернуть налево, у двери — направо: иначе закружится голова. Знает правила перестукивания — сначала свой партийный лозунг (чтобы знали, кто ты по взглядам), затем новости, затем о еде и куреве и уже потом — о личном. Он знает, что такое допрос и что такое пытка. На своем личном многолетнем опыте. В первом вопле избиваемого больше страха, чем муки. Ожидаемые муки сильный человек способен выдержать — как боль при удалении зуба. Нестерпимы только неожиданные муки, к которым нельзя заранее подготовиться.
Рубашов знает все европейские тюрьмы, как коммерсант знает отели. Во время последнего ареста в одной из стран от побоев он почти оглох, на допросах ему повыбивали зубы, он едва не ослеп. Но ни в чем не признался. Молчал или лгал — по-умному. В камере пыток он терял сознание, его обливали водой, и он снова молчал или лгал. За отсутствием улик его освободили, посадили в самолет, и он прилетел домой, в страну Победившей Революции. Его встречали с оркестрами, он участвовал в митингах, присутствовал на парадах, был вблизи лидера страны — Первого.
Что делает Рубашова стальным? Его Идеология и его принадлежность к Партии.
Он — из небольшой группы Настоящих Революционеров. “Они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить всякую власть; они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться”.
Единственная цель Революции — избавить людей от бессмысленных страданий.
Но оказалось, что этого можно добиться, “лишь ввергнув мир — разумеется, временно — в адскую бездну страданий”, в конечном счете в “кровавую резню”. Поэтому Революционер не может считаться с тем, как другие воспринимают мир. И соответственно — жалеть этих других. “Когда узнаешь про несчастную шавку, которая жалобно скулит от боли и лижет руку своего мучителя, а он-то, негодяй, и вырезает ей печень — становится тошно... Но если бы защитникам дали власть, у человека до сих пор не было бы вакцины от чумы, тифа, проказы, холеры...”.
Рубашов жесток и беспощаден. Он даже не может точно вспомнить, сколько он лично убил офицеров в Гражданскую войну — то ли десятков семь, то ли целую сотню. Он и сейчас поступил бы так же. Даже если бы знал, что Революцию оседлает Первый.
Смерть не пугает Революционера. Смерть — техническая деталь в логических выкладках. Впрочем, это слово и не употребляют. В партийных кругах говорят — “ликвидация”.
Совесть губит Революционера. Совесть сжигает его рассудок. Ложь — спасительна, так как действует успешнее правды. Человек слаб и не может без насилия идти в будущее.
От ошибок Революционера избавляет коллектив — Партия. Если бы Раскольников убивал старуху-процентщицу для захвата денег в фонд партии — вообще бы не было никаких поставленных Достоевским вопросов. Партия не ошибается. У отдельных людей могут быть ошибки. У Партии — никогда. Партии надо следовать без малейших отклонений. Тот, кто оступился, сделал неверный шаг — вправо или влево, — срывается в пропасть.
Перед нами по-своему исключительно цельный человек. Действительно стальной. Что же с ним произошло?
Пока Рубашов был согласен с Генеральной линией Партии — его не смущали ни расстрелы, ни кровь, ни другие спутники насильственного учреждения социализма.
Но события развивались так, что у Рубашова появились сомнения в правильности линии руководства Партии и, прежде всего, самого Первого.
Сначала — то самое рабочее движение за рубежом, которым он руководил. Оно не только не расширялось — оно теряло влияние, уменьшалось число его сторонников. Курс был определен точно, — говорит Рубашову один подпольщик, — только мы-то разбиты.
Еще один сюжет. Фашистское государство объявило войну. Ему нужна нефть. Рабочие-докеры бойкотируют войну. И тут появляется флот из пяти судов страны Победившей Революции. Она продала нефть фашистам. В конфликте интересов Мирового Движения и Родины Революции на первое место лидеры Революции поставили свою страну. И командующий Народным Флотом Богров расстрелян за то, что требовал строить большие подводные лодки. Он считал, что они нужнее для дальнейшего развития Мировой Революции. А Партия и Первый хотели строить малые подлодки — для круговой обороны страны Победившей Революции.
Разногласия с Партией во внешней области дополняются разногласиями по внутренним вопросам.
Приехав домой, Рубашов обнаружил, что уровень жизни трудящихся ниже дореволюционного, условия труда — более тяжелые, нормы повышены, расценки снижены, дисциплина стала рабской.
Вожди в Партии почитаются как восточные владыки. Деспотическая власть Революционного Правительства ничем не ограничена. Создана гигантская Политическая полиция с научно разработанными системами пыток, а всеобщее доносительство стало нормой.
К власти пришло новое поколение — научившееся мыслить после Переворота. У них нет ни памяти, ни традиций. Они чисты в своем безродстве. Массы опять погрузились в спячку. Старик, основатель Партии, объявлен Богом-отцом, чтобы мог стать Богом-сыном его преемник, Первый.
“Мы гоним хрипящие от усталости массы — под дулами винтовок — к счастливой жизни, — заявляет Рубашов, — и ради нашего великого эксперимента содрали с них кожу и гоним их кнутом в светлое будущее”. На возражение: “мы сдираем с человечества старую шкуру, чтобы впоследствии дать ему новую”, — Рубашов отвечает: “я вижу освежеванное наше поколение и не знаю, где взять новую кожу”. И далее: “Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами?”
У Рубашова появляется соблазн: уйти в сторону. Но он уверен: те из революционеров, которые так поступили, предали свое дело.
По книге Кестлера мы можем только догадываться, какие конкретно действия предпринял Рубашов, следуя сделанным для себя выводам. Возможно — и на это тоже есть намек — он просто решил, по совету единомышленников, “побыть в резерве”, оставаясь за рубежом. И Рубашов уже через несколько недель попросил вновь отправить его за границу на нелегальную работу.
“Быстро вы собрались”, — сказал ему Первый с сатанинской иронией в глазах. Первый все понял. Он дал Рубашову уехать, чтобы тот “расслабился”. А потом — арест.
2. Дай мне любое дело...
Рубашов к аресту готов. Он постарался побольше узнать о новых методах пыток. Он даже знает о существовании “паровой ванны”.
Рубашов не из тех малоопытных, которые сочиняют бесконечные заявления прокурору (которые тот никогда даже не просмотрит) и пишут массу писем жене (которые до нее никогда не дойдут). Рубашов хорошо знает, что в тюрьме “сознание невиновности пагубно влияет на человека... подрывает моральную стойкость”. Сам Рубашов хорошо сознает, в чем он виноват, и его врасплох не застать. Он уверен: “его ни в чем не заставят признаться: он скажет только то, что считает нужным”.
Но и следователи готовы к допросам Рубашова. Они предъявляют ему обвинение в подготовке Переворота и даже Гражданской войны.
И главный их аргумент — вовсе не пытки, а логика самого Рубашова. Следователи ему заявляют: если ты был уверен, что наши убеждения пагубны и порочны, а твои — верны, ты мог выступить публично. Тебя, конечно, исключили бы из Партии. Ты не выступил открыто. Почему? Из трусости? Смешно даже ставить такой вопрос в отношении тебя. Значит, делаем вывод: ты решил, что бороться против нас тебе будет удобнее в рядах Партии. Что нам остается делать, как не арестовать тебя?
Но теперь ты должен все признать и выступить на суде, так, как это нужно Партии. Это твое последнее партийное задание. Ценою в твою жизнь и в твою репутацию. Единственное, что мы можем обещать, говорит один из следователей Рубашову, что после полной победы мировой революции все материалы процессов, вся правда будут объявлены. (Замечу от себя, что следователь, возможно, искренне в это верил. Меня всегда поражали два факта. Первый — все, даже ничтожные записочки тщательно подшивались. Второй — надпись на всех делах расстрелянных: “Хранить вечно”.)
Рубашов знает свою вину. “Моя ошибка заключалась в том, что я стремился к гуманизму и демократии, не понимая вредности своих устремлений. Мне хотелось немного смягчить диктатуру, расширить демократические свободы для масс, свести на нет революционный террор и ослабить внутрипартийную дисциплину”.
Но от него требуют другого. Он должен оклеветать себя и умереть как ненавидимый и всеми презираемый “враг народа”. Чтобы показать, какую опасность представляют собой враги и чтобы объяснить ошибки, просчеты, провалы на участках, которыми он руководил как народный комиссар.
Партия, говорит следователь, имеет право предъявить такие требования. Это — как право командира полка пожертвовать ротой, чтобы спасти полк. Ты сам так же не раз поступал: и в подполье, и в Гражданскую. У Революции и Партии нельзя отнять право распоряжаться человеческими жизнями.
Чему следовать: воле Партии или своим взглядам? Главная слабость Рубашова — и в этом корень всех проблем — что Рубашов так и не уверен, кто прав: Первый или они, оппозиция. Чуть ли не неделю спустя после революции революционеры поняли, что марксизм не может быть конкретным руководством к действию. Они следуют логике: прав тот, кто побеждает. Если победит Первый — прав он.
Другая слабость Рубашова в том, что у него нет другой логики, чем правота Партии, ее большинства, правота Верха, правота ЦК и Революционного Правительства, правота Первого. И с этой логикой он уже заранее становится добычей следователей. Ведь “Первый верит в свою непогрешимость яростно, фанатично, неудержимо и слепо. У его якоря мертвая хватка. А мой бессильно царапает дно...”
Зачем же надо клеветать на себя? Ответ прост. Надо пригвоздить оппозицию к позорному столбу.
Сначала Рубашов отказывается: “С меня достаточно подобной логики. Я от нее смертельно устал — мне уже пора уходить со сцены”. Но потом вариант “тихого”, без публичного суда, расстрела его начал смущать. “Если партиец уходит из жизни, не примиренный с Партией, с революционным Движением, то его смерть не принесет пользы”.
И Рубашов принял решение. На вопрос Обвинителя, действовал ли он по заданию мировой контрреволюции, Рубашов ответил: “Да”.
3. Просветы в слепящей тьме
Через несколько лет после написания “Слепящей тьмы” Кестлер узнал, что угаданная им версия капитуляции Рубашова почти до деталей совпадает с тем, как “ломал” следователь Слуцкий выдержавшего все пытки видного деятеля ленинской гвардии Мрачковского. Мрачковский был согласен с тем, что “настоящий большевик обязан подчинять свои помыслы и волю помыслам и воле партии и, если нужно, бестрепетно идти на смерть, а то и на позорную смерть”. Слуцкий рассказывал, что, выматывая Мрачковского, он “сам так измотался и перевозбудился, что расплакался вместе с ним, когда на третью ночь мы договорились до гибели идеалов революции... Нужно любой ценой спасти партию, она одна способна спасти революцию... В данный момент никто, кроме Сталина, не способен руководить партией... Только сталинский ненавистный режим еще несет в себе слабые отблески надежды на светлое будущее, на алтарь которого мы оба обрекли себя с юности, и больше ничего не остается, совсем ничего, кроме как, спасая этот режим, постараться предупредить обреченный взрыв недовольства разочарованных, дезорганизованных масс. Для этого партии нужно, чтобы бывшие лидеры оппозиции публично признались в совершенных чудовищных преступлениях”. И на исходе четвертого дня этой дискуссии несгибаемый — это знала вся партия — Мрачковский подписал показания, с которыми позднее выступил на суде. Кестлер написал об этих — уже реальных — событиях в рассказе “Трагедия “стальных” людей”.
Кестлер вряд ли успел узнать — до своей смерти в 1983 году — о лежавшем в личном архиве Сталина письме Бухарина. Бухарин тоже не был сломлен. Он понимает — суд над ним нужен Партии. Бухарин пишет, что у Сталина “имеется какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки а) в связи с предвоенным временем, в) в связи с переходом к демократии. Эта чистка захватывает: а) виновных, в) подозрительных и с) потенциальных подозрительных. Без меня здесь не могли обойтись...”. Далее Бухарин писал Сталину: “Я настолько вырос из детских пеленок, что понимаю, что большие планы, большие идеи и большие интересы перекрывают все и было бы мелочным ставить вопрос о собственной персоне наряду с всемирно-историческими задачами, лежащими на твоих плечах”.
Правда, Бухарин уже чувствует шаткость логики: это нужно Партии. Он пишет: “И все путается у меня в голове и хочется на крик кричать и биться головой о стену: ведь я же становлюсь причиной гибели других. Что же делать? Что делать?”
В книге В.Роговина “Партия расстрелянных” приводятся воспоминания Авторханова о Бутырской тюрьме. На заявление Варейкиса: “Если цена сохранения социализма в стране — это наша гибель, то большевик должен быть готов и на такую жертву” — Постышев возразил: “Если цена сохранения социализма — это жизнь партии, которая руководила его строительством, и каторга для миллионов, которые его строили, — тогда мне наплевать на такой социализм...” В.Роговин справедливо сомневается, говорил ли эти слова именно Постышев, но сам факт споров такого рода только подтверждает версию Кестлера: и в части признаний Рубашова, и в части его сомнений в правильности таких своих действий.
У Кестлера Рубашов пошел гораздо дальше и сомнений Бухарина, и утверждения авторхановского Постышева. Когда-то, говорит Рубашов, мы знали свой народ. Мы назывались Партией Масс. И наша Революция увенчалась успехом. А сейчас? До ареста, во время ареста и допросов, на суде и после суда Рубашов думает об одном и том же — где и в чем мы ошиблись. Он не может отделить себя от “мы” и соответственно ищет не личную, а общую ошибку.
Сначала он склоняется к версии — неправильное исполнительство, неудачные исполнители. Отсюда и его программа — ослабить диктатуру и т.д.
Но Рубашов всегда был исключительно логичен. И он понимает, что логика всей его жизни закономерно, неизбежно вела его к полному и абсолютному подчинению Партии и Первому. Охранник, всаживающий ему пулю в затылок, — последнее звено его собственной логики.
Но если шаг за шагом абсолютно логичны, а итог — расстрел — абсурден, то надо думать уже не о правильности логики шагов, а о правильности самих исходных посылок.
Сомнение первое в части посылок: прав ли лидер Партии? Сам Первый абсолютно в этом уверен — но так ли это? Если он не прав — не правы все, включая меня с моим личным признанием и моим расстрелом.
Сомнение второе: а почему возникает ситуация, когда личные ошибки Первого становятся обязательными для всех? Рубашов приходит к выводу, что это неизбежно связано с самой святой для него идеей — Партия всегда права. И с еще более фундаментальной идеей: Партия — все, а все отдельные личности — ничто, в лучшем случае — винтики. Ведь и сам Первый — тоже винтик. Главный, но винтик. Следовательно, дело не в Первом, а в самой концепции Революционной Партии и Революционной Диктатуры.
В предсмертные мгновения сильный человек имеет право на то, что никогда не посмеет сделать слабый духом. Перед уходом в полную неизвестность есть право и на самое страшное — признать всю свою жизнь ошибочной.
И в слепящей тьме у Рубашова в последние минуты перед расстрелом появляются просветы.
Он подходит к выводу, что ошибка была не в исполнении, ошибка была в самом проекте. Ошибка была в принятой им и всей Партией концепции насильственного осчастливливания человечества ценой жертв и средствами диктатуры. Подлинная ошибка в том, что “интересы человечества они поставили выше интересов человека, мораль принесли в жертву целесообразности, а средства — цели”.
Другая ошибка: замена научной теории общества точкой зрения Партии, ее лидеров, мнением Первого. “Доказательства опровергались доказательствами, и в конце концов мы вернулись к вере, которая вообще не нуждается в доказательствах: каждый из нас уверовал в непогрешимость своих суждений. Это был поворотный момент”. И действительно, если, оставшись без инструкций теории, революционеры объявляют истиной свои суждения, то кто из них прав? Большинство партии? А если нет демократии в партии? Тогда истина — это суждения элиты партии, ее ЦК, ее лидеров и первого, в конце концов.
Ожесточенная беспощадная борьба за лидерство среди ленинской гвардии определялась не только грандиозными материальными привилегиями у начальства, и даже не только непомерным честолюбием. Огромную роль играло то, что победитель получал право объявлять верховной истиной свои личные убеждения, называть их и марксизмом, и ленинизмом. Это был тупик.
Рубашов приходит к выводу: “Видимо, была неверной вся логическая система мышления... Возможно, Революция была и преждевременной — и потому обернулась кровавой бойней. Да-да, они ошиблись во времени... Возможно, ошибка коренилась в аксиоме... что цель оправдывает средства... Может быть, позже, гораздо позже поднимется “новая волна” Движения с новыми знаменами и новой верой — в экономические законы и “океаническое чувство”. Возможно, создатели новой Партии будут носить монашеские рясы и проповедовать, что самые светлые цели оправдывают только чистые средства... и тогда не аморфные массы, а миллионы личностей образуют общество”.
Рубашов нашел в себе силы начать думать не об ошибках строителей, прорабов социалистических преобразований, не о преждевременности начала реализации проекта, а об ошибках в самом проекте будущего общества. Он приблизился к самым фундаментальным выводам (многие из которых сделал в своем “Завещании” гениальный Плеханов).
К сожалению, и прототипы Рубашова, и сам Кестлер остались в тридцатые годы в ничтожном меньшинстве. Прошло почти полвека, прежде чем идея ошибки в самом проекте социалистического устройства стала близкой большинству прежде самых искренних сторонников ленинизма.
Об этом — в следующих записках.